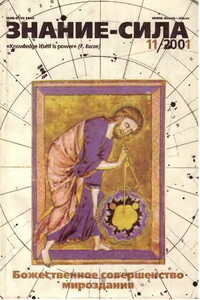К концу девяностых эта идея увяла. Второй сюжет оказался долговечнее: он был связан с неизбежностью для России периода авторитаризма.
Об этом на первой сессии сказал наш автор тех лет Евгений Стариков, сразу же признавшись, что не он первый «ставит этот вопрос»; зато первый высказался во всей полноте страхов и сомнений, с этим связанных: «Наш генералитет отличается дубовитостью и в проблемах экономики разбирается, как свинья в апельсинах, госбезопасность – не лучше, а МВД – это импотенция в действии плюс тотальная коррумпированность снизу доверху. И сам собой напрашивается скорбный вывод: нет в России политических групп, обладающих не только силой, но и интеллектом, и способных работать на то, чтобы Россия в будущем стала демократической и либеральной. И все же… Готового ответа я не имею: обречены ли мы фатально на авторитаризм, работающий лишь на консервацию себя самого, а следовательно, и того энтропийного болота. в которое мы попали. Или у нас, вопреки всему, все же возможен просвещенный, патриотический авторитаризм.., чтобы послужить переходной формой, а потом сознательно уйти..?». Как видим, сомнения связаны лишь с характером грядущего авторитарного режима, но никак не с его неизбежным приходом.
Собственно, выбор одного из вариантов Старикова и разделил тогда социологов, политологов и политиков: одни опирались на знаменитую ленинскую формулу «нация рабов, снизу доверху все рабы» и ничего хорошего от авторитаризма не ждали, другие надеялись на авторитаризм просвещенный и ссылались на переход к демократии через Пиночета и Франко.
Наверное, ничего плохого в аналогиях нет; по крайней мере, они означают категорический отказ от идеи полной уникальности собственной истории. И кроме того, предполагают хотя бы знакомство с опытом стран, уже преодолевших тяжкий путь от централизованного патерналистского государства к демократическому. Но в рецептах «по аналогии» не больше науки, чем в ленинской формуле. Зато она вполне соответствует народному тяготению к твердой руке и наведению порядка.
Понадобились усилия серьезных специалистов по Латинской Америке, чтобы показать относительность всяких аналогий и сложность, неоднозначность конкретной истории. Однако мифы живут не по законам научного знания.
Миф о «сильной руке» оказался очень долговечным в обществе и обеспечил всенародную поддержку ныне действующему президенту. А вот мифологический период в жизни научного сообщества, объединенного симпозиумом, после первых сессий пошел на убыль, как пошли на убыль и споры о том, что лучше – капитализм или социализм.
Наверное, самим ученым пройти через этот период было необходимо. История советского обществоведения – отдельная тема, на мой взгляд, необычайно интересная. Я и до сих пор не понимаю, как общественная наука могла существовать в качестве именно науки в идеократическом государстве; знаю только, что, тем не менее, существовала – не протестная, диссидентская, такой она становилась вынужденно, но «кухонная», семинарская, осторожно проникающая в официально проводимые исследования, ориентированная на мировую науку и стремящаяся стать ее частью. Но незримый колледж тех лет был очень невелик, замкнут и вряд ли сумел наработать так много, чтобы оказаться вооруженным научным знанием перед лицом такой глубокой трансформации общества.
Во всяком случае, к обществоведам в полной мере относилась горькая шутка, адресованная всей советской интеллигенции: «Свобода слова есть, а слова – нет». И несмотря на призывы Татьяны Ивановны Заславской работать, по возможности «отбросив старые и новые мифы, минимизировав политические пристрастия», несмотря на то, что именно в этом зале собрались все, кто мог внять этому призыву, необходимо было время для того, чтобы суметь ответить на обличительную реплику женщины: «Как вы можете спокойно обо всем этом говорить, когда в Чечне гибнут люди?!».
«На втором этапе эволюции российского постперестроечного обществоведения, – по мнению Юрия Александровича Левады, – обществоведы занялись особенностями российских трансформаций, изучением их механизмов, кризиса социальных институтов и роли неформальных практик во время такого сокрушительного кризиса».
Иными словами, занялись как бы более научной работой, чем обсуждение непосредственных политических прогнозов. Хотя, разумеется, и на первом этапе были сугубо научные доклады, и на втором звучали чисто политические лозунги, все же зал симпозиума больше не воспринимался как продолжение митинга в НИИ или на знаменитой московской интеллигентской кухне, где обсуждалось все то же самое. Впрочем, уже и не обсуждалось в прежних масштабах: люди бросились искать работу и приработок, привычно скрывая последний от официальных органов и столь же привычно ужасаясь официальным цифрам всеобщей бедности. Помню, как поразилась аудитория докладу Евгения Головахи, сравнившего уровень благосостояния семей в 1985 и 1995 годах, как его тут же заподозрили чуть ли не в подлоге: оказалось, что число автомашин и дач за эти 10 лет так сильно возросло, что списать их лишь на ограбивших народ олигархов не было никакой возможности…