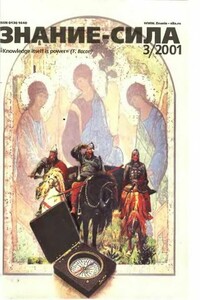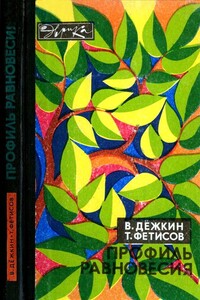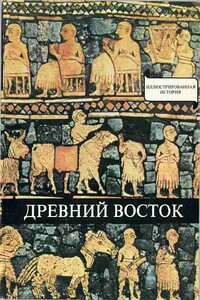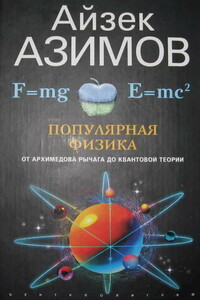Книгу можно раскрыть, не только когда хочешь и где хочешь, но и на той странице, на какой пожелаешь. Говорящего, однако, нельзя перелистывать – речь его сохраняет свою естественную последовательность. Можно заткнуть себе уши или ему рот, но послюнявить палеи и отсчитать две страницы назад нельзя. Это только сумасшедший в «Швейке» просил открыть его на слове «переплетное шило». Нормальная бабушка, которую осаждают фольклористы, подобных интенций не имеет. Не хочет старушка петь колыбельную, потому что вместо малютки видит одни небритые физиономии. Кто к нам пришел?
Текст жил собственной величественной жизнью, как в наши дни живет только церковная служба или театральное действие, если оно, конечно, не записано на пленку. По объективности своего линейного развертывания рассказываемый текст не уступает самой действительности. Речь его персонажей длится ровно столько, сколько длится живая речь.
Когда передавалось предание, слушающий должен был буквально смотреть в рот говорящему, улавливая его мимику, интонацию, жесты, воспринимая вместе со словами и сам облик рассказчика. В свою очередь, это налагало ответственность на говорящего. Его собственная свобода также оказывалась стесненной, когда он участвовал в длинной цепи передачи предания: вместе со словами транслировалась манера говорить. Когда мы цитируем письменный источник, мы вольны в дикции и отчасти даже в интонации, но когда мы воспроизводим реплику из фильма, мы в меру своих способностей воспроизводим и мимику, и голос артиста. Ретранслятор текста был в плену у своей школы говорения. Эта школа не имела учебников и теорий. Если бы в качестве народной эпопеи функционировала «Бриллиантовая рука», десятки поколений рассказчиков повторяли бы голосом Папанова: «Детям – мороженое, бабе – цветы». Школа существовала не как система правил, а как цепь людей, которым смотрят в рот. Ее ученик не мог учиться экстерном и наверстывать пропущенное, штудируя конспекты своего приятеля.
Порча текста могла носить и носила стихийный характер, но для сознательных подделок у слушающего-говорящего не было инструментов. Устное бытование речи ограничивало языковую рефлексию, мешало отделить существенное от несущественного, содержание от формы, и люди, когда речь шла об основополагающих преданиях, попадали в положение свифтовских гуигнгнмов, которые никак не могли понять феномена лжи. Речь лилась, слагаясь из понятного и непонятного, волновала и успокаивала, как музыка. Можно было фальшивить, но нельзя было фальсифицировать.
Вполне очевидно, что люди предания сплошь были язычниками. Нет ничего естественнее брака предания и язычества. Изобретение письма подтачивает языческое мифотворчество, превращая его если и не сразу в двухтомник «Мифы народов мира», то уж по крайней мере в «Метаморфозы» Овидия. Миф живет по законам молвы. Записанные и собранные вместе мифы сразу же обнаруживают известную долю условности. Со временем миф обращается в метаязык, в своего рода терминосистему, набор знаков. Недаром в основе научных терминов и названий лежат мифологические имена. Наука быстро прибирает к рукам и несчастную Арахну, и слепого Эдипа, она бестрепетно переселяет олимпийскую братию поближе к гербарию и кунсткамере. Записанный миф – отложение полезных ископаемых. Их-то и жгут в наших печах. Горят не то что как дрова – как уголь! Что такое для Маркса Прометей? Полено! А Заратустра для Ницше? Да полено же! Вот тебе и все огнепоклонничество!
Наряду с метаязыком разрушителем мифа становится, так сказать, и «метаязычество», ибо письменность открывает широкую дорогу к коллекционированию чужих мифов. Рядом с известными мифами можно записывать малоизвестные и более экзотичные для культуры, рядом с теми, которые воспринимаются буквально, те, которые воспринимаются фигурально, и т.д., и т.п. Сопоставление, обобщение, классификация – все это отнюдь не друзья мифологического мировосприятия, в основе своей синкретического. А коль нет мифа – нет и язычества.
С другой стороны, погружение людей в бесписьменное существование или хотя бы в существование в условиях сильно ограниченной письменности (тотального контроля над свободой слова) сразу увеличивает вес молвы и плодит мифы. Но стоит хотя бы два схожих политических мифа поместить в одной книжке, и даже самые впечатлительные головы призадумаются. Там «фюрер», здесь «вождь», а там «кормчий»… «Эге!» – скажет читатель, а это междометие не из языческого лексикона.
Что касается современного книжного язычества, черпаемого из брошюры шарлатана, то оно, скорее, одна из ипостасей атеизма, чем форма подлинного политеизма людей молвы. Древнее язычество исторично и национально укоренено, а возможность надевать на Вселенную произвольно вычитанные концепции – это от лихости безверия, от «отвязанности», как сейчас говорят. Впрочем, это уже о другой эпохе.
2. Люди письма
Когда среди людей предания появились люди письма, слушающий (читающий) получил первую порцию свободы. Она была незначительна, пока записи делались на твердом материале, она возросла, когда появились свитки, и достигла внушительных размеров, когда возникла современная форма книги – кодекс.