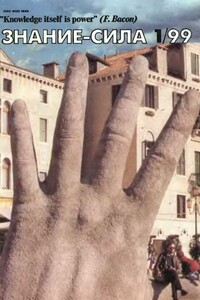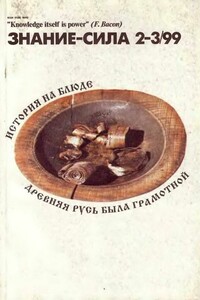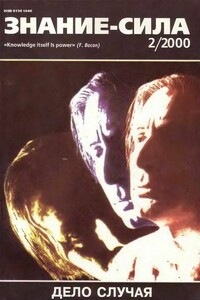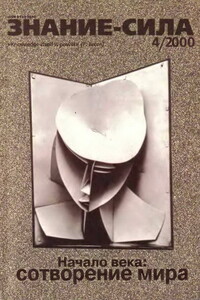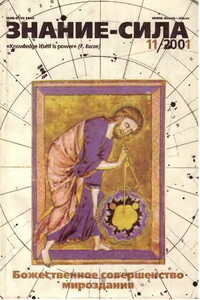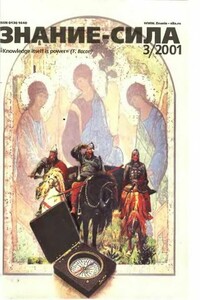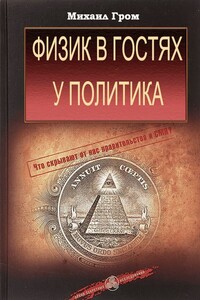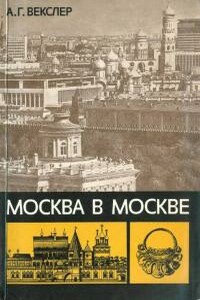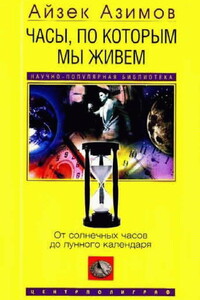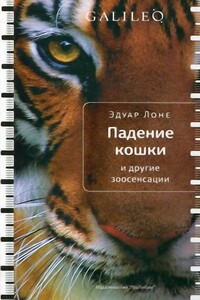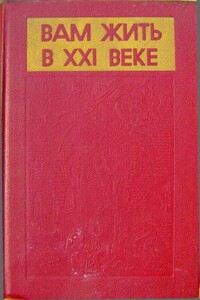Тогда я еще не знал – а большинство архео- и палеосейсмологов не знают и до сих пор (думаю, и ты в их числе), – что на голых, как череп, скалах Швеции, Финляндии, да и у нас в Карелии («курчавые скалы», «бараньи лбы», луды) подобные мелкомасштабные дислокации далеко не редкость.
Было о чем задуматься. Книги по Старому городу дома были, и я быстро разобрался в том, что обнаруженное подземелье – шведский бастион, сохранившийся из внешнего пояса фортификационных сооружений вокруг городских стен. Дата окончания постройки – 1695 год. Вскоре началась Северная война между Россией и Швецией. Вряд ли ты помнишь из истории, что в 1710 году, после девятимесячной осады, армия Петра I овладела Таллинном (тогда Ревель) и Эстония попала под власть России.
Конечно, дефектологические прогулки я сопровождал замерами и записями. Пришло время сделать решительное усилие по проверке накопившихся наблюдений и казавшейся поначалу неправдоподобной гипотезы.
Я достал карту Старого города, увеличил ее и нанес на нее пункты наблюдений. Система трещин в шведском бастионе оказалась на самом северном краю Старого города. Простирание ее север-северо-западное. Все остальные пункты расположились к юго-юго-западу, то есть в лежачем крыле разрыва. Тогда я составил еще одну карту – направлений возможного удара в каждой точке по характерной геометрии деформаций. И что ты думаешь!? Большая часть стрелок оказалась направленной… – да! – в сторону шведского бастиона. Тут уж никаких иных причин, объясняющих согласованную ориентировку, кроме подземного толчка, я не вижу. Так ли?
Глубокий скепсис
Я полагал, что мой долг довести факты и соображения до сведения эстонских коллег Домашние считали, что без дальнейших систематических исследований выходить с докладом в Таллинне нельзя.
Они не знали того, что знал я. Они не представляли, сколь далеко мы двинулись с 1986 года и руководствуемся не соображениями, но имеем в руках археосейсмический метод.
Я знал, что в Эстонии нет специалистов в этой области, и не рассчитывал найти понимание. Но и нигде более не считал себя вправе обнародовать наблюдения прежде, чем познакомлю с ними местных коллег.
Предложил заслушать мое сообщение Анто Раукасу. Ты его помнишь, он тоже был в Коринфе, а потом стал директором Геологического института в Таллинне. Анто согласился без колебаний (спасибо ему!).
Сообщение было построено по за* конам жанра. Начал с ярких примеров, затем постепенно разворачивал главные карты. Сильный ход в конце (шведский бастион) должен дойти до геологической аудитории, Н а закуску звучала ссылка на народный эпос «Калевипоэг». где весьма прозрачно говорится о землетрясении на эстонском берегу близ Таллинна.
Слушали с вниманием, задавали вопросы, выступали вежливо. Поверить в то, что в Таллинне вообще возможно сильное землетрясение, никто не мог. Известный эффект психологического стопора: не знаем – значит, не могло быть. Подобное мне уже приходилось встречать при обсуждении великого Восточно-Кавказского землетрясения 1668 года. Способов борьбы с неверием (от собственного незнания) еше не придумано. Даже такой, казалось бы, логичный прием, как ссылка на известное по аналогии, обычно не помогает.
– Представьте себе, если бы мы с вами вот так же обсуждали проблему 24 октября 1976 года и кто-то стал бы утверждать, что в Эстонии близ острова Оссмуссаар возможно семибалльное землетрясение. С ним бы согласились? Ему бы поверили? Нет. Но 25 октября оно произошло.
Нет, такая логика не действует. Люди должны или знать явление «на собственной шкуре», или быть в состоянии прочесть доказательства на том же языке, на каком они написаны. О языке археосейсмологии, о чтении «записей» на архитектурных памятниках мы сами с тобой, Статис, узнали лишь недавно, а наши слушатели в большинстве о нем лаже не слышали.
Я воспринял глубокий скепсис коллег, вежливо облеченный в вопросы и выступления, как явление в этой ситуации вполне естественное. Другого нельзя было и ждать. Моя задача была исполнена.
Конечно, при обсуждении не раз звучал контраргумент, по правде говоря, и меня ставивший в тупик. Выступавшие ссылались на отсутствие каких-либо сообщений о землетрясении в архивах города, хотя хроники велись регулярно и мимо такого события хронисты пройти не могли. Когда привычный и обязательный язык молчит, а говорит какой-то другой, публике не знакомый и потому неубедительный, чему она верит?
Я не стал приводить примеры из моей практики в других регионах, когда сначала по археосейсмическим данным вырисовывалось и устанавливалось событие, а лишь много позже находились неизвестные до того письменные упоминания о нем. Сравнение – не доказательство.
Вопрос повис в воздухе. Ну не мне же, в самом деле, лезть в городские архивы XVII-XVIII веков.
Но своим делом я все же продолжал заниматься, чувствуя, что туг меня никто не заменит и никто мне не поможет. Дома только смеялись: ведешь себя как заезжий чудак-профессор. Ты бы, Статис, я уверен, смеяться не стал.
Теперь во время прогулок ищу старые дома в процессе ремонта. Большую часть пропустил в прошлые годы. Но иногда удается войти внутрь и увидеть по обнаженному каркасу архитектонику, крупные следы повреждений, перестроек и древних реставраций. Жаль только, что в управлении по охране памятников, представитель которого на моем докладе выражал заинтересованность во взаимодействии (как и я, естественно), про наши возможности больше не вспоминали.