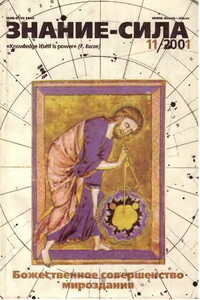Знание-сила, 1997 № 03 (837) - [7]
Но и после Октября контроль большевиков над страной отнюдь не был установлен сразу. Более того, можно говорить о том, что в стране сложилось своеобразное двоевластие, которое удерживалось до зимы-весны 1918 года: с одной стороны, существовало правительство Ленина, которое пыталось сдержать народную инициативу или урезать ее и подчинить государству, а с другой — народные органы самоуправления в лице фабзавкомов, крестьянских организаций, частично Советов. В деревне, как это показали новейшие исследования, развернулась настоящая общинная революция; вся земля захватывалась крестьянскими общинами, социализировалась ими и раздавалась для обработки «по едокам».
В городах нередко возникали ситуации, когда рабочие сами захватывали предприятия, а затем заставляли власть признать их экспроприацию, объявив нх национализированными. Уже весной 1918 года Ленин с неудовольствием отметил, что властям пришлось национализировать больше, чем они намеревались, что пора остановиться. Большевистское правительство судорожно пыталось удержать ситуацию под контролем государства. Декрет «О рабочем контроле» сразу после Октября подчинят рабочее самоуправление властям; в январе 1918 года фабзавкомы, большинство членов которых стремились к такому самоуправлению, были слиты с послушными правительству профсоюзами. Весной 1918 года Ленин открыто провозгласил программу «государственного капитализма»; требования ряда категорий трудящихся передать те или иные предприятия под управление тех, кто на них работает, или профсоюзов отвергались как «анархосиндикализм».
Но только в условиях гражданской войны большевистской верхушке удалось окончательно установить свое господство над страной и фактически собрать империю. Советы были лишены какой-либо самостоятельности, кооперация разгромлена, профсоюзная оппозиция анархо-синдикалистов нейтрализована — небольшие радикальные профсоюзы попросту были растворены в более крупных и послушных. На предприятиях введено единоначалие администратора, на крестьян обрушились реквизиции. Политика военного коммунизма в действительности не имела ничего общего с коммунизмом и была антиэгалитарной. По существу, она аналогична якобинской государственно-революционной диктатуре в эпоху Французской революции и — как и она — жестоко преследовала не только правую оппозицию, но и массовые движения трудящихся классов.
Паралич и нейтрализация социальных движений властью облегчались тем, что очень многие активисты социалистической оппозиции приняли провозглашенную большевиками альтернативу: или все левые поддержат «власть комиссаров», или придут белые. Зачастую анархисты, эсеры-максималисты, левые эсеры воспринимали большевистское правление как «меньшее зло», вступали в Красную армию и воздерживались от подрыва «социального мира» в «красной» зоне. Вероятно, им не следовало этого делать. Но это можем сказать сегодня мы, с высоты прошедшего времени. События развивались иначе и привели к поражению российской революции.
И, на мой взгляд, это случилось в 1921 году. Мне кажется, 21-й год — это конец революции. Разгром последних очагов сопротивления трудящихся (Кронштадтского восстания и махновского движения) и переход к нэпу — авторитарной госкапиталистической модели со смешанной экономикой, которой Ленин добивался еще в 1918 году, означали «самотермидор» большевистской верхушки, быстро распавшейся на враждующие группировки. Но роковой удар поджидал ее со стороны нового класса номенклатуры — бюрократии, сформировавшейся за годы гражданской войны для выполнения функций «проводника» решений олигархической «воспитательной диктатуры» ЦК. Однако должны были последовать еще поражение «якобинской» или «левой» фракции большевиков, этап «термидора» — борьбы различных партийных и бюрократических кланов, и, наконец, сталинский «брюмер» 1929—1930 годов, прежде чем в России утвердился специфический «капитализм без буржуазии».
Для того чтобы развить тяжелую промышленность, не опасаясь мировой конкуренции, то есть в конечном счете создать базу для будущего развития капитализма (о чем, конечно же, в те годы никто и не заикался, но к чему должна была привести «логика истории»), властям понадобилось максимально огосударствить всю экономическую и социальную жизнь. Это положение не случайно чем-то напоминает раннекапиталистический абсолютизм с его жестким меркантилизмом и протекционизмом и соответствующие теории вроде «замкнутого торгового государства» Фихте.
Роль буржуазно взяла на себя бюрократическая номенклатура — она стала своего рода «коллективным капиталистом», очень своеобразным, надо сказать. Для успешного решения своих задач, для упрочения своего господства внутри и вне страны, для проведения первоначального накопления, ограбления крестьянства и закрепощения рабочих, для индустриализации и усилий «догнать и перегнать» своих империалистических конкурентов бюрократии пришлось много десятилетий держаться вместе. Но мало- помалу бюрократы и технократы стали тяготиться своей ролью управляющих.
Мы все помним знаменитую формулу о «ничейной собственности». На самом деле, она отражает не реальную сторону дела (собственность не бывает «ничейной»), а субъективное ощущение тех, кто об этом говорил. Трудящиеся рано или поздно почувствовали свою отчужденность от средств производства и поняли, что они им не принадлежат. Но ведь о том же вели речь те, кто контролировал эту собственность. Почему? Да потому, что они не желали больше мириться с ограничениями, которые накладывало на них их коллективное, групповое владение и распоряжение якобы общенародным достоянием. Внутри номенклатурного класса чем дальше, тем больше проявлялись групповые и элитные интересы — территориальные, ведомственные, отраслевые, клановые. Различные группировки и даже отдельные представители бюрократии вступили в острую борьбу между собой за раздел и передел своей общей государственной собственности. При этом некоторые продолжали настаивать на сохранении прежних методов эксплуатации трудящихся, другие стремились перейти к «нормальному» частному или частно-государственному капитализму, который бы твердо зафиксировал их долю.

Книга Дэвида Вуттона – история великой научной революции, результатом которой стало рождение науки в современном смысле этого слова. Новая наука – не просто передовые открытия или методы, это новое понимание того, что такое знание. В XVI веке изменился не только подход к ней – все старые научные термины приобрели иное значение. Теперь мы все говорим на языке науки, сложившемся в эпоху интеллектуальных и культурных реформ, хронологические рамки которой автор определяет очень точно. У новой цивилизации были свои мученики (Джордано Бруно и Галилей), свои герои (Кеплер и Бойль), пропагандисты (Вольтер и Дидро) и скромные ремесленники (Гильберт и Гук)

Пчелы гораздо древнее, чем люди: когда 4–5 миллионов лет назад предшественники Homo sapiens встретились с медоносными пчелами, те жили на Земле уже около 5 миллионов лет. Пчелы фигурируют в мифах и легендах Древних Египта, Рима и Греции, Индии и Скандинавии, стран Центральной Америки и Европы. От повседневной работы этих трудолюбивых опылителей зависит жизнь животных и людей. Международная организация The Earthwatch Institute официально объявила пчел самыми важными существами на планете, их вымирание будет означать конец человечества.

Все мы знаем, насколько важны для правильной диагностики анализы крови. Однако когда видим результаты, часто не понимаем, что они означают. Благодаря этой книге вы научитесь трактовать результаты анализов и делать конкретные выводы, узнаете, на что обращать внимание, как снизить риск развития заболеваний и выработать полезные привычки для поддержания здоровья всех систем организма.
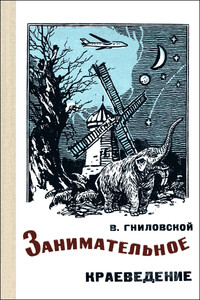
Второе, переработанное и дополненное, издание книги, удостоенной в 1955 году второй премии на конкурсе на лучшую научно-художественную и научно-популярную книгу для детей. Рассказ о природе Ставрополья, ее красоте и богатстве, о возможностях изысканий и открытий в природе родного края. Книга содержит интересные загадочные рассказы, викторины, удивительные рассказы о природе. Она учит любить и охранять природу, воспитывает навыки исследования и успешного использования природных богатств края.

Книга раскрывает удивительный мир грибов, богатство их форм и разновидностей. На ее страницах — наши давние знакомцы, постоянные объекты 'тихой охоты' в лесу — шляпочные грибы, а также менее известные — грибы микроскопические. Читатель узнает о том, какой ущерб причиняют грибы сельскому хозяйству, вызывая болезни растений и животных; ознакомится с их полезными свойствами, широко используемыми в микробиологической промышленности при производстве кормовых дрожжей, аминокислот, витаминов, ферментных препаратов, антибиотиков.

В книге дается описание природы, городов и поселков Огненной Земли и Патагонии, жизни овцеводов, лесорубов, рыбаков и моряков, рассказывается об истории индейских племен, приводятся различные гипотезы и теории их происхождения, говорится о сырьевых богатствах этой далекой территории и о их использовании. [Адаптировано для AlReader].