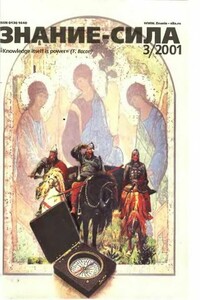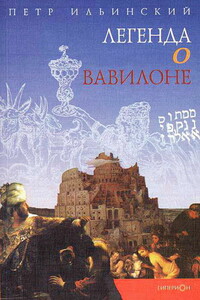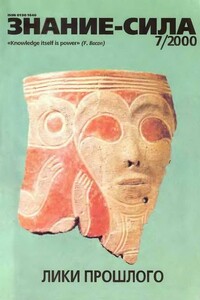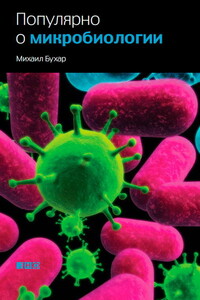Роберт Уилсон. Пол
За этими инсталляциями прочитывается история: история Германии, история первобытного человека, история России, а может, и ничем не примечательные личные истории. Инсталляция предлагает нам рассказать наш собственный маленький роман. И — через наши ощущения, через наши истории — приобщиться к Сущему. И, хотя и несколько смутно, эти инсталляции — сообщники нашего упадка. Так как перед этими обломками, этими всполохами ощущений, этими разрозненными предметами вы больше не знаете, кто вы такие. Вы — на грани головокружения, быть может, черной дыры, на грани дробления психики, которое обычно именуют психозом или аутизмом. И в этом — устрашающая привилегия современного искусства; привилегия сопровождать нас в этих новых болезнях души.
Я отношу себя к тем, кто полагает, что мы живем в низкую эпоху. В своем романе «Старик и волки» я попыталась сопоставить сегодняшнюю ситуацию с закатом Римской империи. С той лишь разницей, что в те времена уже заявила о себе новая религия, еще не обретшая своего грядущего блеска, но уже потрясающая умы и ниспровергающая существующие представления. Конечно, я не уверена, что грядет новая религия, ни даже, что ее появление было бы желанно. Но я думаю, что мы все нуждаемся в некоем опыте. Я говорю о неизведанном, о неожиданности и изумлении; боль или восхищение — и лишь потом понимание этого потрясения. Возможно ли это? Быть может, и нет. Может быть, шарлатанство стало слишком легким в нашу эпоху, превращающую вес в зрелище или товар, и нет никакой «полосы отчуждения». И в таком контексте, разумеется, надлежит быть очень требовательными, то есть разочарованными. Я лично предпочитаю сохранить некую долю бдительного любопытства, внимания и открытости.

Христиан Борланд. Слабость, разруха, старость и прочие неприятности
Европейской традиции — будем говорить только о ней, так как здесь феномен наиболее очевиден,— ведом опыт культуры, неотделимой от социальной реальности, культуры как критического разума. Европейские народы являются народами культуры именно в том смысле, что культура осознается ими как критический разум. Картезианское сомнение, свободомыслие Просвещения, гегельянское отрицание, борьба Маркса, бессознательное Фрейда и, не говоря уже о «Я обвиняю» Золя, бунтарство формы, Баухаус и сюрреализм, Арто и Штокхаузен, Пикассо, Поллок, Френсис Бэкон. Прекраснейшие моменты искусства — всегда бунт, формотворческий и метафизический. Коммунизм задушил эту культуру бунта, обратил ее в террор и бюрократизм. Сможем ли мы вновь обрести этот дух, облечь его в новые формы, невзирая на крах идеологий и торжество рыночной культуры? Да, именно такова проблема, речь идет о самой возможности культуры и, в частности, искусства.
Я полагаю, что современный мир подошел к той точке своего развития, когда определенный тип культуры и искусства, если не культура и искусство в целом, находится под угрозой и даже становится невозможным: не искусство-шоу или искусство-информация, конвенционные, сервильные и поощряемые масс-медиа, но именно искусство- бунт.
Джаспер Джонс. Опасная ночь
Но кто может взбунтоваться и против чего? Некая совокупность органов против нормализующего порядка, да еще с помощью мелькающих на телеэкране картинок? Так что определим точку отсчета, сверим наши часы: о каком искусстве и какой культуре можно говорить в данном контексте? Готового ответа не существует, можно лишь порассуждать об этом.
Я полагаю, что опыт прошлого, память и в особенности память второй мировой войны, Холокоста и краха коммунизма делают нас особенно внимательными к нашей культурной традиции, ставящей во главу угла сознание и художественный опыт человеческого субъекта и также — времени, времени личности и времени истории, времени Бытия. Мы — субъекты и существуем во времени. От Бергсона до Хайдеггера, от Пруста до Хааке и Уилсона различные фигуры субъектности были помыслены и облечены в слова или формы нашей современной культурой. И различные модальности времени должны привести нас не к рассуждениям о конце истории, но к попытке обнаружить новые фигуры темпоральности. Надо поддерживать художественный опьгг, исследующий драму субъектности и различные подходы к времени. Этот опыт позволит нам постичь и конкретный исторический момент, и эту множественную, раздробленную, взорванную темпоральность, которую проживают современные люди и которая ставит их перед выбором между интегризмом и национализмом, с одной стороны, и биотехнологиями — с другой.

«Огонь». Перформанс. Венецианская биеннале 1993 года
Не надо бояться все более утонченных исследований этого пространства субъекта, его извилин и тупиков, не надо бояться рассуждений и споров об опыте времени. Люди стремятся к самонаблюдению и молитве: искусство отвечает этой потребности. И особенно его странные, смутные, примитивные, «уродливые» формы, предлагаемые художниками. Часто они осознают, что могут быть лишь бунтарями по отношению к этому нормализующему и извращаемому новому порядку. Но столь же часто они не отдают себе в этом отчета и надеются найти удовлетворение в более или менее изысканном минимализме.