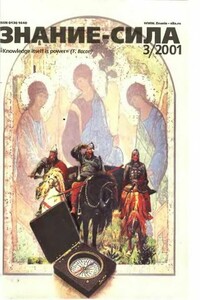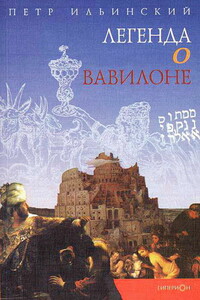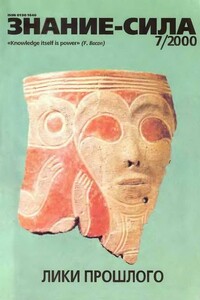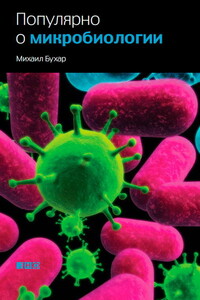Юрий Кузнецов, экономист, сказал: он мог работать только с государственными источниками информации, прежде всего в библиотеках, но использовал эти средства против советского государства; всегда осознавал это противоречие и мучился им.
Владимир Каганский, географ и культуролог, возмутился: никогда в такой же ситуации мук совести не знал и вообще, если разобраться, еще неизвестно, кто кому задолжал — государство ему, получая его идеи почти даром, или он государству за пользование публичной библиотекой.
Кто-то заметил, что наука давным-давно приватизирована и сейчас идет всего лишь реализация приватизированного. Еще кто-то дал весьма остроумное определение этой приватизации: зарплату платили всем примерно одинаковую, работать или не работать было приватным делом каждого. Свободным выбором.
Биологи, химики, географы, философы, психологи, шутя и играя, как и положено говорить о вещах серьезных в дружеском кругу интеллектуалов, пытались определить отношения российской науки с советским и российским государством (некоторые настаивали, что до сих пор это одно и то же) и свое собственное положение в нынешней российской науке.
В каждой шутке здесь была некоторая доля шутки, и метафоры вбрасывались в круг, как мячи, тут же подхватывались, раскручивались, начинали работать, определяя трудноопределимое.
Валерий Дымшиц, химик, первым вбросил идею средневекового «держания», когда король дает своему вассалу некие земли в полное управление, но может их в любую минуту отобрать. Сергей Чебанов вырастил из этой метафоры понятие «ленная наука»: научная область, отданная государством на «держание» крупному ученому или ловкому пройдохе с чинами и званиями, которые командовали своим «леном» до тех пор, пока оставались в фаворе. «Ленная» наука вписывалась в государственную, была неотъемлемой ее частью; без такой «ленной» стратегии советская наука не имела бы ученых с мировым именем, но, возможно, не знала бы и унижения Лысенковщиной.
Однако границы между государственной и негосударственной наукой никак не становились отчетливыми.
Негосударственную науку некоторое время искали на пересечении многих других «не-»: наук неформальных, неофициальных, непарадигмальных и прочее, и прочее, но обнаружили на этом перекрестке только какую-то околонаучную чепуху, поскольку нельзя же быть маргиналом во всем сразу и оставаться внутри серьезной науки.
Стенограмму никто не вел. Жаль, что от трех дней напряженного думанья и интеллектуальной игры в конце концов остались только мои торопливые и не везде внятные записи — боюсь, скоро я сама перестану их понимать.
Б. Родоман: Государство мне никогда не мешало, хотя я его и не люблю — я анархист. Нет, не говорите мне ни о каких партиях и объединениях, даже анархистских: стоит людям объединиться хотя бы для того, чтобы купаться в проруби, и они немедленно начинают копировать государство.
С. Чсбанов: В школу ходить я был обязан. В университет пошел, чтобы не иметь дел с милицией. В конце концов пришлось решать, что делать дальше: заниматься тем, что мне интересно, или становиться агентом по снабжению. Отказ от последнего определил первое.
Ю. Кузнецов: Государством называется организация, которая имеет монополию на применение насилия как для защиты, так и для агрессии, и которая содержит себя за счет принудительного изъятия части собственности своих граждан.
Например, туг я торопилась записать за Валерием Дымшицем и Александром Раутнаном прелестные миниатюры из истории науки: про Лапласа, например, который был, как известно, «чудовищным занудой», и только раз в жизни, прячась у друзей от якобинского террора в далеком поместье, трясясь от страха, вдруг сформулировал странную теорию, которая и вошла в науку под его именем. (Кстати, насчет имен: Валерий Дымшиц заметил, что о степени приватизированности той или иной научной области можно судить по тому, как называют институт, лабораторию, кафедру, где ее разрабатывают. В петербургском Технологическом институте, впрочем, как и везде, слабые кафедры называют по предмету, а сильные — по имени руководителя.)
Только благодаря совместному сидению биологов и экономистов была обнаружена интересная закономерность. Владимир Жерихин называл страны, располагающие сегодня лучшими энтомологическими коллекциями; Испания, Италия, Швейцария; быстро растут собрания Австралии, Новой Зеландии, Китая; просто сумасшедшие темпы роста бразильской коллекции. Недавно стали замедляться стремительные темпы роста коллекций Индии и Турции.
— Но это же почти полностью совпадает с динамикой экономического роста! — воскликнул удивленный Виталий Найшуль.— А что во Франции, Англии, Германии?
— Во Франции упадок, в Англии и Германии коллекции давно не растут.
— Понятно: страны загнивающего капитализма.
Совсем причудливой оказалась связь недавнего имперского прошлого многих государств с принципом формирования в них государственных гербариев.
— Систематики в принципе интернациональны, может, больше, чем другие ученые,— рассказывал Алексей Оскольский,— Мы группируемся по таксонам, которые изучаем, и нам, конечно, интереснее всего гербарии, составленные по таксономическому, а не по региональному принципу: отдельно семейство цветковых, например, отдельно другие семейства, а не флора Индонезии или австрийских Альп. Но лучшие гербарии — в метрополиях бывших империй, и представлена в них в основном флора бывших колоний. Гербарий в СССР расширялся тоже по этому принципу, представляя все новые и новые зоны политического и экономического влияния страны. Разумеется, флора союзных республик; во Вьетнаме я имею шанс столкнуться именно и только с французским ботаником, ну и так далее.