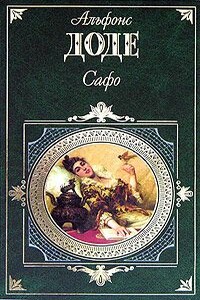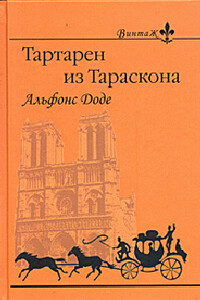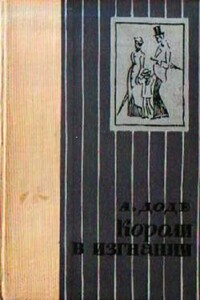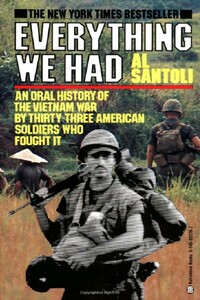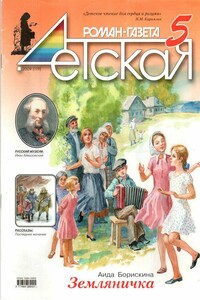Все эти фразы прерывались от быстрой ходьбы и привычки заикаться; но у старика была вполне ясная и определенная мысль — взять свое знамя, развернуть его над полком и броситься на пруссаков со всеми теми, кто согласится последовать за ним.
Когда он пришел в квартиру полковника, его даже не впустили. Раздраженный приказом, полковник не хотел видеться ни с кем, но от Горнуса было нелегко отделаться. Он бранился, кричал, толкал вестового.
— Мое знамя, я хочу свое знамя…
Наконец отворилось окно.
— Это ты, Горнус?
— Да, полковник, я…
— Все знамена в арсенале. Иди туда, и там тебе выдадут расписку.
— Расписку? Зачем?
— Таков приказ маршала.
— Но, полковник…
— Ну, и оставь меня в покое… — И окно захлопнулось.
Старый Горнус шатался, будто пьяный.
— Расписка, расписка… — повторял он машинально.
Наконец он пошел, понимая лишь одно, что знамя его в арсенале и что надо получить его, во что бы то ни стало.
V.
Ворота арсенала были отворены настежь, чтобы пропустить прусские фургоны, которые ждали своей очереди. Входя в ворота, Горнус вздрогнул. Тут уже находились остальные знаменщики, 50 или 60 печальных, молчаливых офицеров; темные фургоны, люди, стоявшие с обнаженными головами под дождем, — всё это напоминало похороны.
В одном углу, на грязной мостовой, были свалены в кучу все знамена армии Базена. Печален был вид всех этих пестрых шелковых лохмотьев, этих остатков золотой бахромы и искусно сработанных древков, всех этих трофеев славы, валявшихся на земле и оскверненных дождем и грязью. Офицер администрации по очереди поднимал их с земли, и каждый знаменщик брал расписку, когда называли имя его полка. За нагрузкой наблюдали два бесстрастных, неподвижных прусских офицера.
Священные знамена славы, вы уходили, развевая свои лохмотья, печально волочась по мостовой, подобно птицам с переломанными крыльями. Вы уходили, унося с собой наш позор, и каждое из вас уносило частицу Франции. Солнечные лучи дальних походов, совершенных вами, трепетали еще в ваших складках. В местах, прорванных пулями, вы сохранили воспоминания о неизвестных воинах, павших под развевающимися над ними знаменами.
— Горнус, твоя очередь… тебя зовут. Иди за своей распиской.
Итак, ему выдадут расписку!
Знамя стояло перед ним. Это было его знамя, самое красивое из всех, более всех изуродованное пулями. При его виде ему представилось, что он стоит высоко на насыпи. Он слышал свист пуль, шум падающих осколков и голос полковника: «К знамени, ребята!» Далее он видел, как падают двадцать два из его товарищей, как он сам, 23-й, стремится поднять, поддержать бедное знамя, которое колеблется за недостатком рук. В этот день он поклялся защищать его, хранить до самой смерти. А теперь…
При этой мысли вся кровь хлынула к его сердцу. Возбужденный, вне себя он бросился на прусского офицера, выхватил у него любимое знамя, обхватив его обеими руками; потом он высоко поднял его с криком: «К знамени!..» Но голос его пресекся. В этой атмосфере смерти, окружающей все сдающиеся города, знамена не могли развеваться, не могло жить ничто героическое. И старый Горнус упал, пораженный насмерть.