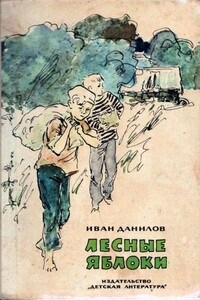Зимний дождь - [37]
Но одна августовская ночь поломала все наши планы, хотя именно этой ночью, душной от ромашкового цветенья и еле уловимого запаха бессмертников, мы мечтали больше всего.
Мы сидели на свежей копне ржаной соломы и видели, как прорубаемся в тайге, идем к человеку, нуждающемуся в нашей помощи, на санках тащим этого человека через буран за десятки верст. Но так должны мы были жить в будущем. А в тот день мы просто работали на току, сортировали зерно, загружали им автомашины. Последний «ЗИС» ушел на элеватор, и все скопом, человек десять, мы пошли купаться в пруд. Охолонувшись, парни и девчата разбрелись, а мы с Камышинкой сели возле озера на копну соломы и мечтали.
Рядом в хлебах били перепела, тонко звенели кузнечики. Но все равно на земле было тихо-тихо.
— Давай считать голубые звезды, — предложила Надька. — Только голубые.
И это было счастьем — видеть звезды, слышать запах белых, как вызревший стебель ржи, волос, глядеть в зеленовато-глубокие глаза. В небе рождалась новая луна, и хотелось верить в примету, будто все, что делается в новолунье, — надежно и надолго. Замолкли перепела, просветлело небо, а мы все слушали степь и, наверно, самих себя. И вдруг нас оглушил смех, Мы вскочили с копны и увидели Дашу.
— Раньше-то хоть в кусты хоронились, а теперь на виду у всех, — начала она стыдить нас, поставив ведро с водой на землю.
Надька непонимающе глядела на ее дергающийся подбородок, а потом крикнула, захлебнувшись слезами:
— Грязная, какая вы грязная!
— А ты меня не грязни! — оборвала Даша. — Мне-то все равно, ты не моя дочь.
Вечером тетя Настя, Надькина мать, сидела у нас дома и плакала, вытирая слезы ладонями:
— Да неужто правда все это? Всю-то жизнь свою положила я на нее. Лишь бы человеком стала.
— Нашли, кому верить, Даше, — упрекнул я ее…
— Может, оно и так, да ведь начнут теперь славить девку. На чужой роток не накинешь платок.
Выйдя на крыльцо, я услышал, как матери наши советовались, не сыграть ли уж нам свадьбу сейчас.
Открыв клуб, я долго стоял на крыльце, ждал Камышинку. Но она не появлялась. Я пошел к ней сам.
Дом Мартыновых в Замалыцкой части станицы, под самой горой, в садах. Всю дорогу я почти бежал и сбавил шаг только на их улице. Окна в доме не светились. Я остановился под яблоней и стал высвистывать соловьиный громок — наш с Надькой пароль. У яблони этой я бывал и в пору ее цветения, и когда ветви, отяжеленные белыми с краснобрызгом яблоками, обнизно выгибались над плетнем. Много летних незакатных зорь отстояли мы с Надькой возле шершавого теплого ствола. В ту июльскую ночь я был около яблони в последний раз. Я обнимал Надьку за худенькие плечи и говорил ей нежные и, наверно, очень глупые слова, но от них на глазах ее навертывались слезы.
— Камышинка, а может, правда нам пожениться сейчас? — спросил я, заглянув ей в глаза.
Надькины плечи выскользнули из-под моих рук, и, чуть склонив голову, она осуждающе прошептала:
— Эх ты!.. Бабьих языков испугался.
И, хлопнув калиткой, Камышинка убежала. Я стоял один в темной ночи и не мог понять, чем обидел Надьку. Додумался я уже позже, узнав, что еще на току подошел к ней Васька Звонарев и предложил расписаться.
— На твоем месте ломаться не стоит, — сказал он, встретив ее насмешливый взгляд. — Не каждый возьмет тебя такую-то…
— Какую? — задохнулась Надька.
— А ты не знаешь?.. Зря, что ли, говорят…
А вечером бухнул о свадьбе я.
Утром Надька исчезла из станицы. На плацу видели, как поймав попутную машину, она поехала куда-то, видно, на станцию. Больше никто ничего не знал. Только через три недели, в сентябре тетя Настя забежала ко мне в клуб сказать, что Надежда прислала письмо, сообщает, что в институт не попала, но возвращаться не хочет, ищет сейчас работу, и адреса своего пока не дает.
— Может, Гена, поехал бы, поискал ее там, — робко попросила тетя Настя.
И я ездил. Узнав, что в городе она не прописана, два дня ходил по улицам, садился в первые попавшиеся трамваи, вглядывался в лица девчонок в окнах автобусов, вздрагивал при виде белых, как ржаная солома, волос. Но это была не она, Надька не встречалась.
Осенью пришло от нее письмо. Оно было напечатано на машинке. Я даже вздрогнул, когда взял в руки конверт, — сразу вспомнились военные похоронки. Письмо показалось мне чужим, равнодушным. Даже где работает, Надька не сообщила, зато перечисляла почти всех обливских девчонок, которым я должен передать приветы. В конце просила писать ей до востребования. Это обидело меня больше всего — значит, от кого-то скрывает мои письма. И я отправил ей ответ еще короче: советовал не обременять машинистку и… Глупое, в общем, письмо, злое. Надька замолчала. Потом писал еще…
…Я сидел на обрывистом берегу Медведицы, спустив ноги под яр, на том месте, где обычно в пору ледолома собирались обливцы глядеть на бунтующую реку. К вечеру тут оставалась одна молодежь, ахали и охали гармошки, на берегу вспыхивали костры. Сколько парней и девчат, столько и костров. Пламя чьих костров сравнивалось, те и целовались на виду у всех. Не знаю, в чем тут секрет, но пламя полыхало так, как нужно было парням. У нас с Надькой не было таких костров, их жгут уже те, кто постарше.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.