Жизнь Владислава Ходасевича - [109]
Твой Владюша».
В сентябре 1928 года оба они жили в Жуан-ле-Пен, на Ривьере, но Берберова уехала раньше, чтобы подыскать новую квартиру, и осенью они перебрались с улицы Ламбларди, 14, в Булонь-Биянкур, тогда еще пригород Парижа, на улицу Четырех Труб, небольшую зеленую улочку предместья.
В 1930 году Ходасевич начал писать книгу о Державине. Толчком к этому, возможно, послужило знакомство с капитальным трудом академика Грота о Державине, взятом в Тургеневской библиотеке.
«15 февр<аля 1>930.
Суббота.
12 ч<асов> дня. <Париж>
Милый мой Ниник, <…>. Проводив тебя, поехал вчера в Berry (кафе на Елисейских полях. — И. М.), а в половине двенадцатого был дома. Пописал Державина, натер ухо камфарой, обвязался, как прачка на Курском вокзале, и лег спать. Однако, долго ворочался, и сегодня хочется мне спать. Зато ухо явно улучшилось».
Берберова в это время гостила у подруги в Ницце.
Теперь, живя в Париже без надежды на возвращение, Ходасевич понимал, что новых, никому не известных материалов о Державине он все равно не раздобудет, о чем прямо писал в предисловии; но ему важно было сконструировать и выразить свое понимание личности этого в чем-то загадочного, мощного и самобытного поэта, влезть в его шкуру и самому осознать какие-то моменты его жизни, психологически истолковать не всегда понятные поступки. Вместе с ним Ходасевич проживал его жизнь с самого начала, с той поры, когда хилого младенца «по тогдашнему обычаю тех мест» запекали в хлеб («Он не умер»), с той поры, когда (по легенде, видимо), младенец, которому указали на большую комету в небе (а было ему около году), «вымолвил первое свое слово:
— Бог!»
Легенда эта очень нравилась Ходасевичу. Обращение Державина к Богу книгу окольцовывало, им она начиналась и кончалась: последние написанные при жизни восемь строчек, начало оды: «Река времен в своем стремленьи / Уносит все дела людей…» — очевидно, должны были привести автора их к мысли о Боге: «О Боге была его последняя мысль, для которой он уже не успел найти слов». Все перипетии трудной и неровной жизни Державина весьма занимали Ходасевича.
И Державин получался живой — Ходасевич сам это чувствовал, он и видел его живым — упрямец, в постоянных страданиях и борьбе с врагами, но крепкий, полный жизненной силы, готовый не только писать стихи, но и с рвением приниматься за государственную, административную работу на благо отечества вопреки всем проискам. Ходасевича умиляла его столь редкая в российском государственном деятеле честность — ничего для себя, никаких искательств, хотя до возвышения своего он прошел жизнь такую трудную, полную мытарств: бедность и унижения, солдатская казарма, подавление пугачевского бунта… Честность эта была непререкаема. Ходасевич писал о нем: «Добро и зло разделял он ясно, отчетливо; о самом себе всегда знал: вот это я делаю хорошо, это — дурно. Словом, умом был прям, а душою прост. Прямота была главной в нем. <…> При первом же препятствии, при первом же столкновении с ложью, с обидой, с несправедливостью <…> Державин терял терпение, срывался и уж тут давал волю своей горячности. Не смотрел ни на что, шел прямиком, делался „в правде черт“, как однажды сам о себе сказал». Поэтому он не ужился ни на одном своем посту: ни губернатором Олонецкой, а затем Тамбовской губернии, ни сенатором, ни кабинетским секретарем при Екатерине. Он не смог поладить ни со своей Фелицей, от которой требовал справедливости и оберегал ее от ее же собственной снисходительности в правосудии, сохранить разворовываемую казну; ни с Павлом, которого в припадке гнева обругал нецензурным словом, ни с Александром I. В этой страсти к безукоризненной честности и справедливости он был близок, созвучен душе Ходасевича. А стихи — он писал их не из лести, как считали некоторые, а в стремлении постичь всю ту же истину, но в другом, в мировом масштабе: «Я связь миров, повсюду сущих, / Я крайня степень вещества, / Я средоточие живущих, / Черта начальна божества…» И бросал иногда все, уезжал и писал с иступленным восторгом. Но «поэзия и служба сделались для него, — по Ходасевичу, — как бы двумя поприщами единого гражданского подвига».
Мил он был Ходасевичу и в последние годы его жизни, в Званке, рачительным, гостеприимным хозяином, любвеобильным «Анакреонтом», все еще радующимся жизни и ее дарам… И особенно, наверное, мил, когда бросился обнимать юного Пушкина: «На глазах его были слезы, руки его поднялись над кудрявою головою мальчика. Он хотел обнять его — не успел: тот уже убежал, его не было. Под каким-то неведомым влиянием все молчали. Державин требовал Пушкина. Его искали, но не нашли». Мы знаем обо всем этом со школьных лет из биографии Пушкина. Но «под каким-то неведомым влиянием» строки эти сильно волнуют…
Ходасевич работал с увлечением, печатая свою книгу по частям в «Современных записках», в которых нередко публиковался. Но шла работа, как водится, не так уж легко: «С Державиным беда. Пишу и выбрасываю. Совершенная Пенелопа», — сообщал он Нине 19 февраля 1930 года из Парижа.
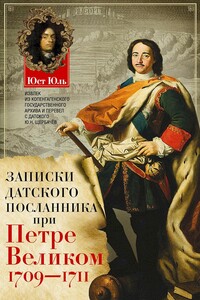
В год Полтавской победы России (1709) король Датский Фредерик IV отправил к Петру I в качестве своего посланника морского командора Датской службы Юста Юля. Отважный моряк, умный дипломат, вице-адмирал Юст Юль оставил замечательные дневниковые записи своего пребывания в России. Это — тщательные записки современника, участника событий. Наблюдательность, заинтересованность в деталях жизни русского народа, внимание к подробностям быта, в особенности к ритуалам светским и церковным, техническим, экономическим, отличает записки датчанина.

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.
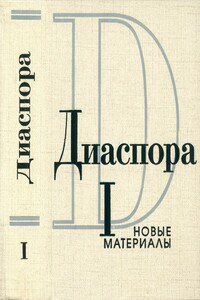
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.