Жизнь русского обывателя. На шумных улицах градских - [2]
Что же касается первопрестольной столицы, то Москва была в первой половине XIX в. глубоко провинциальным городом. Пензяк, проведший молодость в Москве, а затем перебравшийся в Петербург, сравнивая две столицы, отмечал, что даже Новгород и Тверь не приуготовили бы взор петербуржца к облику Москвы, поскольку своей архитектурой, прямизной и шириной улиц они мало отличаются от северной столицы. В Москве же петербуржцу «…покажут Тверскую улицу – и он с изумлением увидит себя посреди кривой и узкой, по горе тянущейся улицы… один дом выбежал на несколько шагов на улицу… а другой отбежал на несколько шагов назад… между двумя довольно большими каменными домами скромно и уютно примостился ветхий деревянный домишко… подле великолепного модного магазина лепится себе крохотная табачная лавочка или грязная харчевня, или таковая же пивная […] Многие улицы в Москве… состоят преимущественно из «господских» (московское слово!) домов. И тут вы видите больше удобства, чем огромности или изящества. Во всем и на всем печать семейственности: и удобный дом, обширный, но тем не менее для одного семейства, широкий двор, а у ворот… многочисленная дворня. Везде разъединенность, особость; каждый живет у себя дома и крепко отгораживается от соседа. Это еще заметнее в Замоскворечье… там окна завешаны занавесками, ворота на запоре, при ударе в них раздается сердитый лай цепной собаки, все мертво, или, лучше сказать, сонно» (11; 48–49).
Но В. Г. Белинский, процитированный выше, был человеком страстным и пристрастным, склонным к преувеличениям. В более спокойном тоне вспоминал в начале ХХ в. о Москве 50 – 60-х гг. XIX в. юрист Н. В. Давыдов: «Переносясь мысленно к детским годам моим, я отчетливо вижу былую Москву… и вижу, как громадно она изменилась с тех пор… В то время небольшие деревянные, часто даже неоштукатуренные дома и домики, большею частью с мезонинами, встречались на каждом шагу, и не только в глухих переулках, но и на улицах. В переулках с домами чередовались заборы, не всегда прямо державшиеся…» (149; 9). Москва во многом оставалась «большой деревней» в прямом смысле слова. Любопытны впечатления от одной из тогдашних окраин Москвы 90-х гг. XIX в. С. Н. Дурылина. Его детство прошло в Елохове, точнее, в Плетешках, в Плетешковском переулке, в бывшей старинной барской, а теперь купеческой, усадьбе, где только сад занимал около десятины земли, окруженный столь же обширными садами соседей, а на дворе впоследствии был выстроен доходный дом и еще осталось просторное дворовое место. И, тем не менее, вот его реакция на усадьбу соседа, помещика Макеровского: «Когда мы с братом впервые вылезли из-под забора во владения Макеровского, мы разинули рты от удивления. Перед нами была большая лужайка с высокой травой, с белыми медуницами, с Иванчаем, с высокими лиловыми колокольчиками. Был полдень. Порхали цветистые бабочки, стрекотали кузнечики, какие-то маленькие птички отзывались им в траве точь-в-точь так, как отзываются в вольных лугах далеко, далеко за Москвой. Это были непуганные стрекозы, бабочки, птички над непутанною травою; никто ее не путал, не топтал, как на заповедном лугу… В кайме из белой сирени блестел под солнцем небольшой пруд… А немного поодаль, на самом припеке колыхалась зеленою волною рожь – настоящая… озимая рожь!
Нижний Тагил. Общий вид и Введенская улица
Была ли это причуда старого помещика, пожелавшего, чтобы в городе было у него в малом виде все, что было в его крепостной деревне, выражалась ли в этом старая, свойственная русскому человеку, выросшему среди медвяных ржаных межей и заключившему себя на безвыходный плен в городе, натура, но только у Макеровского каждую осень вспахивали сохой кусок земли, сеяли рожь, по весне появлялись всходы, Макеровский в халате выходил посмотреть на первые зеленя, затем на первый колос, а потом, при нем, жали эту полоску, на полоске появлялся золотой сноп. Не знаю, где и как молотили, мололи зерно, но угрюмый барин Макеровский каждую осень отведывал из собственного нового умолота хлеба, как его прадеды в исчезнувшей Отраде!» (40; 107–108).
Напомним: это Москва 90-х гг. XIX в. (Дурылин родился в 1886 г.). Читатель-москвич может поискать это местечко. Нужно выйти из станции метро «Бауманская» и, пройдя мимо Елоховского собора, свернуть налево, в сторону Доброй Слободки и Горохового Поля. Поищите на асфальте меж многоэтажных домов угодья Макеровского с золотой ржаной нивой!..
А вот описание купеческой усадьбы 70-х гг. XIX в. в Замоскворечье, на Татарской улице. «Как все там было не похоже на нашу Тверскую – ни экипажей, ни пешеходов, ни городовых. Мирная тишина деревенской усадебной жизни. Белый двухэтажный дом, перед ним большой двор, посыпанный красным песком, посреди двора развесистый дуб с подстриженной верхушкой в виде шатра. За домом большой сад с беседками, плодовыми деревьями, огородом и кегельбаном, тогда еще редкой новинкой» (4; 52–53). Не диво, что на широкой Татарской улице зимами устраивались конские бега! Впрочем, как увидим ниже, Тверская тоже недалеко ушла в ту пору от Татарской.

Заключительная часть трилогии «Жизнь русского обывателя» продолжает описание русского города. Как пестр был внешний облик города, так же пестр был и состав городских обывателей. Не говоря о том, что около половины городского населения, а кое-где и более того, составляли пришлые из деревни крестьяне – сезонники, а иной раз и постоянные жители, именно горожанами были члены императорской фамилии, начиная с самого царя, придворные, министры, многочисленное чиновничество, офицеры и солдаты, промышленные рабочие, учащиеся различных учебных заведений и т. д.
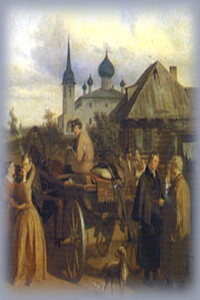
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
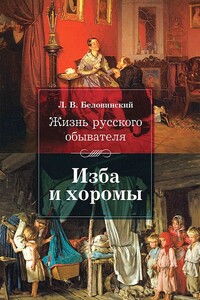
Книга доктора исторических наук, профессора Л.В.Беловинского «Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы» охватывает практически все стороны повседневной жизни людей дореволюционной России: социальное и материальное положение, род занятий и развлечения, жилище, орудия труда и пищу, внешний облик и формы обращения, образование и систему наказаний, психологию, нравы, нормы поведения и т. д. Хронологически книга охватывает конец XVIII – начало XX в. На основе большого числа документов, преимущественно мемуарной литературы, описывается жизнь русской деревни – и не только крестьянства, но и других постоянных и временных обитателей: помещиков, включая мелкопоместных, сельского духовенства, полиции, немногочисленной интеллигенции.
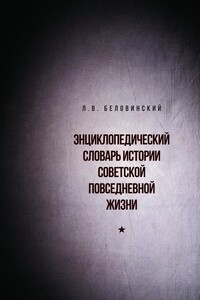
Книга посвящена истории повседневной жизни советского человека с 1917 г. до конца советской эпохи – начала 1990‐х гг. Здесь раскрываются основные черты частного и общественного быта советских людей, а также формировавшие его реалии политической, социальной, экономической жизни. Издание рассчитано на массового читателя, интересующегося жизнью своих отцов и дедов в ушедшую в небытие и уже забывающуюся эпоху. Создатель этой книги – доктор исторических наук профессор Л.В. Беловинский, специалист по истории повседневности и истории материальной культуры, автор ряда учебных пособий и многочисленных публикаций, в т.ч.

Послесловие доктора исторических наук А. А. АМОСОВА Книга видного историка и археолога посвящена легендарной библиотеке Ивана Грозного, историей которой учёный занимался более 40 лет. В начале 30-х годов он вёл поисковые работы в подземельях Московского Кремля, которые были прекращены после убийства С. М. Кирова. В первом томе прослеживается история библиотеки, рассказывается о хранившихся в ней уникальных книгах, во втором описывается начальный этап её поисков Стеллецким. Отсутствие третьего тома, таинственно исчезнувшего, в определённом смысле восполнено дневниками автора, которые читаются, как приключенческий роман. Предназначена для массового читателя.

Генерал А. И. Деникин. Кто спас советскую власть от гибели. Перевод парижского издания 1937 года в современную орфографию. Флибуста. 2018.

Впервые после 1903 г. переиздаётся труд военного историка С. А. Зыбина (9 октября 1864, Москва – 30 июня 1942, Казань). В книге нашли отражение как путевые впечатления от деловой поездки в промышленный центр Бельгии, так и горькие размышления о прошлом и будущем Тулы – города, который мог бы походить на Льеж, если бы сам того пожелал… Как приложение приводится полный текст интерпретации образа тульского косого левши, отождествлённого Зыбиным с мастером А. Сурниным.

В этой книге последовательно излагается история Китая с древнейших времен до наших дней. Автор рассказывает о правлении императорских династий, войнах, составлении летописей, возникновении иероглифов, общественном устройстве этой великой и загадочной страны. Книга предназначена для широкого круга читателей.

О строительстве, становлении и печальной участи Оренбургского Успенского женского монастыря рассказывает эта книга, адресованная тем, кто интересуется историей родного края и русского женского православия.

Книга была дважды издана на русском языке, переведена на английский, отдельные главы появились на многих европейских языках. Книга высоко оценена рецензентами в мировой литературе как наиболее полное описание истории вмешательства коммунистической партии в развитие науки, которое открыло простор для процветания шарлатанов и проходимцев и привело к запрещению многих приоритетных направлении российской науки. Обширные архивные находки позволили автору коренным образом переработать книгу для настоящего издания, включив в нее новые данные и концессии.