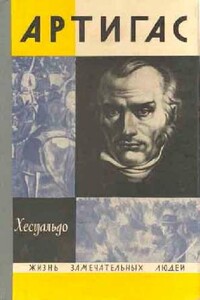Жизнь московских закоулков - [5]
Поступив в кухарки в какой-нибудь купеческий дом, предприимчивая баба с азартом голодного сельского человека отъедается на хозяйских харчах, копит деньжонки, «перестраивает» сарафаны на платья, а затем уходит в содержательницы комнат, развесив на улице «билеты»: «Сдесь адаюца комнаты састылом и снебилью, вхот налева фперваю лесницу».
В заведениях «съемщиц» существовали особые запахи и звуки, разные типы обитателей комнат и квартир, примечательные нравы и обычаи, и Левитов рисует подлинную «мистерию», царящую внутри тоскливого жилища, заселенного бездомным народом.
В своих «сценах» писатель использует подлинный язык городских низов, передающий колорит времени и дающий богатую информацию о менталитете представителей различных слоев общества. Диалоги действующих лиц в его зарисовках настолько жизненны, что невозможно не ощутить дух эпохи и колорит образов. Обычная сценка у разгульного трактира «Крым», в описании Левитова, обращается в документальное свидетельство:
«– Извощик! – кричит молодой парень, видимо мастеровой. – Что возьмешь на Девичье поле? Там ты меня подождешь, примером, пять минут, с Девичьего поля на Покровку, там тоже пять минут, с Покровки к Сухаревой и духом назад.
– Што взять-то? – спрашивает один дядя из целой толпы извощиков, облепивших Крым своими калиберами. – Давай целковый.
– Облопаешься неравно! – с укоризной предполагает молодой парень.
– Сколько же дашь-то?
– Сколько дам-то?..
– Да, сколько же от тебя будет?
– Трынку! – с хохотом отвечает парень, быстро сбегая в подземелье.
– О-ой, батюшки! Шлею с лошади в одну минуту сняли! – кричит кто-то за трактирным углом».
Та часть городской жизни, которую не могли узнать «благородные» писатели и которой не придавали значения литераторы революционно-демократического толка, в очерках Левитова предстает как живое полотно, где, по ходу повествования, действуют будочники, лихачи, нищие, староверы, азартные картежники, прожившие состояние баре, страдающие «от бутылочной болезни» ремесленники, отставные прапорщики, различные чиновники, тронувшиеся умом старые барыни, студенты, гулящие, белошвейки и другие, по выражению автора, «орнаменты земного шара».
В присущей ему лирической манере беллетрист дает описания «идиллии», свойственной отдаленным московским районам типа Грачевки или Цветного бульвара, которые москвичи называли тогда: «у черта на куличках, у сатаны на рогах». «Кто знает нравы девственных улиц, тому нечего говорить, что обитатели их в восемь часов утра все давно на ногах; но кто не знает этих нравов, тот непременно подумал бы, что жители еще спали. Так было все тихо на улице, кроме табачного дыма, который густыми клубами выпускала из окна маленького домишка одна усатая ермолка, ничего не было видно на ней. Росла тут, правда, ярко-зеленая трава, увлажненная еще не высохшей росой, за заборами стояли развесистые деревья, на них чирикали садовые птицы, будочник стоял на крыльце своей будки со стаканом чая в руках…»
Замечательна способность Левитова «оживлять» и олицетворять предметы, которые как бы ведут диалог с героями. В его рассказах разговаривают не только лес, изба, но и бревно, статуи, стулья, самовары. Эта склонность автора, как она ни комична порой, пропитывает повествование большой душевностью и придает ему дополнительные оттенки. Вот как в очерке «Аркадское семейство» описывает Левитов гостиную статской советницы Анны Петровны, бывшей горничной, а в момент повествования многоуважаемой дамы, в тот момент, когда комнату впервые видит ее дочь, прибывшая из благородного пансиона: «…Уродливые жизненные представления, почерпнутые нашей барышней из «Графини Монсоро», как стая маленьких птичек, спугнутая кем-либо, в ужасе взвивается над уединенным полем, в страшной суматохе заметались в голове ее, когда пансионерка в первый раз вступила под убогую кровлю родительских лар. Стройный ряд соломенных стульев, вытянутых в маленьком зальце, аляповатый диван, обитый ситцем, круглый стол перед ним, созданный как будто медведем для медведя, модные картинки времен покорения Очакова, висевшие на стенах в уродливых бумажных рамках, бесстрастный портрет отца, написанный масляными красками, и даже сами гелиотропы и гвоздики на окнах – все это вместе необыкновенно покоробило молодое лицо девушки…
– Так эдак-то? – протяжно подумала про себя барышня.
– Да-с! Эдак-то! – ответили ей с двусмысленной улыбкой соломенные стулья, дешевые обои, гелиотропы и гвоздики, тараканы, ползавшие по стенам, и мыши, шуршавшие за обоями.
– Да! Так-то! – басисто скрипнул ей в свою очередь медвежий диван.
– Мы здесь все так! Мы всю свою жизнь так! – монотонно подтвердил ей бледный портрет отца. В ужасе барышня порхнула в свою двухаршинную спальню и принялась плакать…»
Подобные «домовые» физиономии составляют замечательные эпизоды в очерках Левитова. Вместе с Левитовым читатель погружается в мир старого города, уходит в глубину дремлющих московских переулков в Замоскворечье, где нет и помина о высоких каменных домах. «Перед вами робко вытянулся ряд скромных домиков, – подобно опытному «чичероне», писатель ведет занимательное повествование в рассказе «Погибшее, но милое создание», – с этими милыми кисейными или ситцевыми оконными занавесками… с заборами, утыканными гвоздями и увенчанными наследственными деревьями, с туго припертыми воротами, с голодной и слепой собакой, равнодушной ко всему окружающему и потому глубокомысленно-молчаливой. Ряд этих патриархальных приютов обыкновенно начинается мелочною лавкой, а оканчивается будкой. У лавки стоит краснощекий хозяин в засаленном, как чумацкая рубаха, фартуке, всегда без картуза, с руками, знаменательно заложенными за спину…На крыльце будки сидит неразгаданный будочник: я потому употребляю этот эпитет, что обыкновенно, решительно невозможно отгадать, дремлет ли будочник, утомленный долгим бодрствованием, или он так же бесцельно, как бесцельно бодрствует, смотрит на широкое картинное всполье, раскидывающееся за такою будкой».
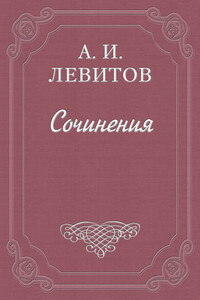
«Солнце совсем уже село. Вечер набросил на село свои мягкие тени. Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину на душу и дремоту на тело.Вот по туго прибитой дороге бойко застучали колеса порожних телег, отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело нагруженные сжатым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего заката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо…».

«Угрюмый осенний вечер мрачно смотрел в одинокое окно моей мрачной берлоги. Я не зажигал мою рублевую экономическую лампу, потому что в темноте гораздо удобнее проклинать свою темную жизнь или бессильно мириться с ее роковыми, убивающими благами… И без тусклого света этой лампы я слишком ясно видел, что чтo умерло, то не воскреснет…».

«Как глубоко я завидую людям, которые имеют право, с светлою радостью на измятых жизнью лицах, говорить про свое детство как про время золотое, незабвенное. Сурово понуривши буйную голову, я исподлобья смотрю на этих людей и с злостью, рвущей сердце мое, слушаю тот добрый и веселый смех, с которым обыкновенно они припоминают и рассказывают про свои нетвердые, детские шаги, про помощь, с которою наперерыв спешили к ним окружавшие их родственные, беспредельно и бескорыстно любившие лица…».

«У почтовой конторы в городе Черная Грязь стояла мужицкая телега, около которой суетились сам хозяин телеги (обтерханный такой мужичонка с рыженькой клочковатою бородой и с каким-то необыкновенно испуганным лицом) и почтамтский сторож, отставной унтер-офицер, с большими седыми усами, серьезный и повелительный старик…».

«В одном из глухих переулков Петербургской стороны, несмотря на позднюю ночь, в окне небольшого двухэтажного флигеля светился огонь. С улицы можно было видеть, что в одной комнате второго этажа за письменным столом сидит и пишет что-то высокий брюнет с длинными кудрявыми волосами, с строгими усами и с тою характерной эспаньолкой, которая все еще продолжает служить отличительным признаком художников при всем том, что ныне завладела ею большая часть коптителей петербургских небес…».

«Близко то время, когда окончательно вымрут те люди, которые имели случаи видеть буйное движение шоссейных дорог или так называемых каменных дорог тогда, когда железные дороги не заглушали еще своим звонким криком их неутомимой жизни…».

Во втором томе Собрания сочинений Игоря Чиннова в разделе "Стихи 1985-1995" собраны стихотворения, написанные уже после выхода его последней книги "Автограф" и напечатанные в журналах и газетах Европы и США. Огромный интерес для российского читателя представляют письма Игоря Чиннова, завещанные им Институту мировой литературы РАН, - он состоял в переписке больше чем с сотней человек. Среди адресатов Чиннова - известные люди первой и второй эмиграции, интеллектуальная элита русского зарубежья: В.Вейдле, Ю.Иваск, архиепископ Иоанн (Шаховской), Ирина Одоевцева, Александр Бахрах, Роман Гуль, Андрей Седых и многие другие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих В предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

Статья из цикла «Гуру менеджмента», посвященного теоретикам и практикам менеджмента, в котором отражается всемирная история возникновения и развития науки управления.Многие из тех, о ком рассказывают данные статьи, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих предшественников не только как экономику управления предприятием, но и как психологию управления человеческими ресурсами. В любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент.В статьях акцентируется внимание на основных достижениях «Гуру менеджмента», с описанием наиболее значимых моментов и возможного применения его на современном этапе.

Дневники М.М.Пришвина (1918–1919) зеркало его собственной жизни и народной судьбы в тягчайшие для России годы: тюрьма, голод, попытка жить крестьянским трудом, быт двух столиц, гражданская война, массовые расстрелы, уничтожение культуры — и в то же время метания духа, любовь, творчество, постижение вечного.В ходе подготовки «Дневников» М.М.Пришвина ко второму изданию были сверены и частично прочитаны места текста, не разобранные или пропущенные в первом издании.
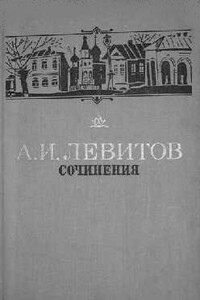
Сочинения писателя-демократа А. И. Левитова содержат присущий «разночинной» литературе 1860-х годов интерес к «маленькому» человеку — герою из народа. Знание «души народной», ярко выраженное лирическое дарование писателя определяют то чувство любви и сострадания, которым пронизаны его «степные» и «трущобные» очерки («Целовальничиха», «Степная дорога днем», «Степная дорога ночью», «Московские „комнаты снебилью“» и др.).