Жизнь - [5]
Варгутин поднял голову и глядел на Варю. Девушка, вся бледная, с дрожащими губами, говорила не ему, а кому-то другому, в пространство. Впервые, может быть, накопившееся горе выливалось у неё в словах. Грудь её дышала часто, неровно, она сухо рыдала без слёз.
— Никогда, поймите, никогда я не буду знать материнства; все люди пройдут мимо меня, и ни один из вас, мужчин, ни самый бедный, ни самый глупый, не захочет назвать меня своей женой. С 16 лет, когда всякая девушка начинает мечтать о счастье, мне отец и мать твердили, что кроме отвращения, я не могу вселять ничего. За что же это? За что? Кто мой судья? Кто мой палач? Кто ответит мне за мою муку? Зачем же в этой исковерканной груди таится жажда жизни, потребность любить, как мать, как жена, как женщина?!
Варя упала на пол у кресла и, обвив голову руками, неудержимо рыдала.
Варгутин нагнулся над нею, положил руку на спину, встретил под ладонью странный костлявый бугор и невольно отдёрнул руку.
— Варя, послушайте, Варя!
Девушка подняла голову; прямые пряди чёрных волос висели вдоль её лица, покрытого красными пятнами. Глаза сухо, злобно блестели.
— Ступайте вон! Вон отсюда! Требуйте от жизни ещё счастья, ещё, через край, до пресыщения и — оставьте тех, у кого нет даже иллюзий! Ступайте вон!
Варгутин попятился к двери, накинул в прихожей на себя шубу, машинально надел калоши, шапку и вышел из дома.
Снова ночной холод охватил его, снова месяц серебрил перед ним дорогу, беззвучно шмыгали сани; он шёл домой пешком тяжёлой походкой. Сердце его болело, грудь ныла, трудно было расстаться с мечтой о молодой любви и счастье. Но ужас перед тем, чем могла бы быть семейная жизнь его, человека отживающего, связанного навсегда с пустой, бессердечной девушкой, смягчала рану.
Да, несчастная Варя была права, — он был ещё слишком здоров, силён и деятелен, чтобы вместе с разбитыми иллюзиями разбилась и его жизнь.

Домашняя и институтская жизнь девочек дореволюционной России предстает перед современным читателем во всех подробностях. Как в прошлом веке девочки получали образование, какие порядки царили в учебных заведениях для девочек, чему их учили, за что наказывали — обо всех переживаниях, проказах и горестях рассказывает увлекательная и трогательная повесть непосредственной свидетельницы событий.

Лухманова, Надежда Александровна (урожденная Байкова) — писательница (1840–1907). Девичья фамилия — Байкова. С 1880 г по 1885 г жила в Тюмени, где вторично вышла замуж за инженера Колмогорова, сына Тюменского капиталиста, участника строительства железной дороги Екатеринбург — Тюмень. Лухманова — фамилия третьего мужа (полковника А. Лухманова).Напечатано: «Двадцать лет назад», рассказы институтки («Русское Богатство», 1894 и отдельно, СПб., 1895) и «В глухих местах», очерки сибирской жизни (ib., 1895 и отдельно, СПб., 1896, вместе с рассказом «Белокриницкий архимандрит Афанасий») и др.

Лухманова, Надежда Александровна (урожденная Байкова) — писательница (1840–1907). Девичья фамилия — Байкова. С 1880 г по 1885 г жила в Тюмени, где вторично вышла замуж за инженера Колмогорова, сына Тюменского капиталиста, участника строительства железной дороги Екатеринбург — Тюмень. Лухманова — фамилия третьего мужа (полковника А. Лухманова).Напечатано: «Двадцать лет назад», рассказы институтки («Русское Богатство», 1894 и отдельно, СПб., 1895) и «В глухих местах», очерки сибирской жизни (ib., 1895 и отдельно, СПб., 1896, вместе с рассказом «Белокриницкий архимандрит Афанасий») и др.

Лухманова, Надежда Александровна (урожденная Байкова) — писательница (1840–1907). Девичья фамилия — Байкова. С 1880 г по 1885 г жила в Тюмени, где вторично вышла замуж за инженера Колмогорова, сына Тюменского капиталиста, участника строительства железной дороги Екатеринбург — Тюмень. Лухманова — фамилия третьего мужа (полковника А. Лухманова).Напечатано: «Двадцать лет назад», рассказы институтки («Русское Богатство», 1894 и отдельно, СПб., 1895) и «В глухих местах», очерки сибирской жизни (ib., 1895 и отдельно, СПб., 1896, вместе с рассказом «Белокриницкий архимандрит Афанасий») и др.

Лухманова, Надежда Александровна (урожденная Байкова) — писательница (1840–1907). Девичья фамилия — Байкова. С 1880 г по 1885 г жила в Тюмени, где вторично вышла замуж за инженера Колмогорова, сына Тюменского капиталиста, участника строительства железной дороги Екатеринбург — Тюмень. Лухманова — фамилия третьего мужа (полковника А. Лухманова).Напечатано: «Двадцать лет назад», рассказы институтки («Русское Богатство», 1894 и отдельно, СПб., 1895) и «В глухих местах», очерки сибирской жизни (ib., 1895 и отдельно, СПб., 1896, вместе с рассказом «Белокриницкий архимандрит Афанасий») и др.

Лухманова, Надежда Александровна (урожденная Байкова) — писательница (1840–1907). Девичья фамилия — Байкова. С 1880 г по 1885 г жила в Тюмени, где вторично вышла замуж за инженера Колмогорова, сына Тюменского капиталиста, участника строительства железной дороги Екатеринбург — Тюмень. Лухманова — фамилия третьего мужа (полковника А. Лухманова).Напечатано: «Двадцать лет назад», рассказы институтки («Русское Богатство», 1894 и отдельно, СПб., 1895) и «В глухих местах», очерки сибирской жизни (ib., 1895 и отдельно, СПб., 1896, вместе с рассказом «Белокриницкий архимандрит Афанасий») и др.

Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967) — один из популярнейших русских писателей XX века, фигура чрезвычайно сложная и многогранная. Известный в свое время поэт, талантливый переводчик, тонкий эссеист, мемуарист, самый знаменитый публицист 30–40 годов, он был в первую очередь незаурядным прозаиком, автором многих бестселлеров. Пройдя испытание временем, его первая книга «Необычайные похождения Хулио Хуренито» и последовавший за ней роман «Жизнь и гибель Николая Курбова» до сих пор звучат свежо и своеобычно.
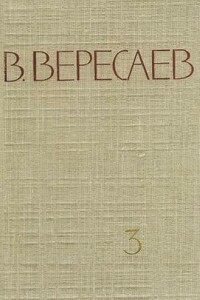
Редкое творческое долголетие выпало на долю В. Вересаева. Его талант был на редкость многогранен, он твердо шел по выбранному литературному пути, не страшась ломать традиции и каноны.Третий том содержит произведения «На японской войне» и «Живая жизнь» (Часть первая. О Достоевском и Льве Толстом).http://ruslit.traumlibrary.net.

Семья Брусяниных. Фото 27 октября 1903 г.Брусянин, Василий Васильевич — рус. писатель. Род. в купеческой семье. В 1903-05 — ред. «Русской газеты». Участвовал в Революции 1905-07, жил в эмиграции (1908-13). Печатался с сер. 90-х гг. Автор сб-ков очерковых рассказов: «Ни живые — ни мертвые» (1904), «Час смертный. Рассказы о голодных людях» (1912), «В рабочих кварталах» (1915), «В борьбе за труд» (1918); романов «Молодежь» (1911), «Темный лик» (1916) и др., историч. романа «Трагедия Михайловского замка» (т. 1–2, 1914-15).

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)
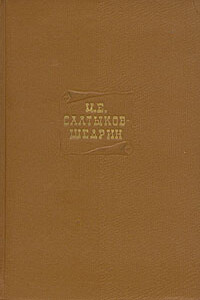
Самое полное и прекрасно изданное собрание сочинений Михаила Ефграфовича Салтыкова — Щедрина, гениального художника и мыслителя, блестящего публициста и литературного критика, талантливого журналиста, одного из самых ярких деятелей русского освободительного движения.Его дар — явление редчайшее. трудно представить себе классическую русскую литературу без Салтыкова — Щедрина.Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова — Щедрина, осуществляется с учетом новейших достижений щедриноведения.Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том собрания вошли цыклы произведений: «В среде умеренности и аккуратности» — «Господа Молчалины», «Отголоски», «Культурные люди», «Сборник».
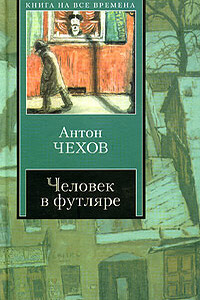
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лухманова, Надежда Александровна (урожденная Байкова) — писательница (1840–1907). Девичья фамилия — Байкова. С 1880 г по 1885 г жила в Тюмени, где вторично вышла замуж за инженера Колмогорова, сына Тюменского капиталиста, участника строительства железной дороги Екатеринбург — Тюмень. Лухманова — фамилия третьего мужа (полковника А. Лухманова).Напечатано: «Двадцать лет назад», рассказы институтки («Русское Богатство», 1894 и отдельно, СПб., 1895) и «В глухих местах», очерки сибирской жизни (ib., 1895 и отдельно, СПб., 1896, вместе с рассказом «Белокриницкий архимандрит Афанасий») и др.

Лухманова, Надежда Александровна (урожденная Байкова) — писательница (1840–1907). Девичья фамилия — Байкова. С 1880 г по 1885 г жила в Тюмени, где вторично вышла замуж за инженера Колмогорова, сына Тюменского капиталиста, участника строительства железной дороги Екатеринбург — Тюмень. Лухманова — фамилия третьего мужа (полковника А. Лухманова).Напечатано: «Двадцать лет назад», рассказы институтки («Русское Богатство», 1894 и отдельно, СПб., 1895) и «В глухих местах», очерки сибирской жизни (ib., 1895 и отдельно, СПб., 1896, вместе с рассказом «Белокриницкий архимандрит Афанасий») и др.

Лухманова, Надежда Александровна (урожденная Байкова) — писательница (1840–1907). Девичья фамилия — Байкова. С 1880 г по 1885 г жила в Тюмени, где вторично вышла замуж за инженера Колмогорова, сына Тюменского капиталиста, участника строительства железной дороги Екатеринбург — Тюмень. Лухманова — фамилия третьего мужа (полковника А. Лухманова).Напечатано: «Двадцать лет назад», рассказы институтки («Русское Богатство», 1894 и отдельно, СПб., 1895) и «В глухих местах», очерки сибирской жизни (ib., 1895 и отдельно, СПб., 1896, вместе с рассказом «Белокриницкий архимандрит Афанасий») и др.

Лухманова, Надежда Александровна (урожденная Байкова) — писательница (1840–1907). Девичья фамилия — Байкова. С 1880 г по 1885 г жила в Тюмени, где вторично вышла замуж за инженера Колмогорова, сына Тюменского капиталиста, участника строительства железной дороги Екатеринбург — Тюмень. Лухманова — фамилия третьего мужа (полковника А. Лухманова).Напечатано: «Двадцать лет назад», рассказы институтки («Русское Богатство», 1894 и отдельно, СПб., 1895) и «В глухих местах», очерки сибирской жизни (ib., 1895 и отдельно, СПб., 1896, вместе с рассказом «Белокриницкий архимандрит Афанасий») и др.