Жизнь Кольцова - [26]
Кольцов напился чаю; ему надоело молчать, он попробовал заговорить с дворником и спросил, как его зовут.
– Окстили Кириллом, – нехотя ответил дворник.
– Вот, брат Кирилл, – присаживаясь рядом, сказал Кольцов, – наказал нас господь летом.
– Да, лето плохое, – равнодушно согласился Кирилл.
– Ты что ж, сам двор держишь ай от господ? – спросил Кольцов.
– Сам, – сказал Кирилл. – Я от барина летось выкупился.
– В дворовых, что ль, у барина-то был?
– Егарем, – коротко ответил Кирилл.
Они сидели на пороге избы. Перед ними пласталась голая, печальная степь. Далеко-далеко в красноватой мгле всходила ущербная луна. Правее, тоже очень похожее на лунный восход, то разгоралось, то меркло зарево пожара.
– Горит где-то, – указал Кольцов на зарево.
– Вторые сутки горит, барина Свентицкого мужики жгут, – спокойно сообщил Кирилл.
– Ай плох барин-то?
– Собака! – Кирилл выколотил трубку и затоптал жар. – A тут еще и слух пошел, будто все колодези кругом потравил, чтоб народу погибель исделать…
– За это и жгут?
– Ну за это… да и так, за другое. Одно слово: собака.
Зарево разгорелось и вдруг разом полыхнуло вполнеба.
– Хлеб зачали жечь, – догадался Кирилл. – Э, да что Свентицкий! – он резко повернулся к Кольцову. – Не то – Свентицкий… всех бы их, одним словом!
Кольцов умел располагать к себе. Во взгляде его лучистых глаз, в голосе, в том, как говорил и слушал, было непередаваемое обаяние, покорявшее собеседника. Наверно, и дворник поддался этому обаянию. Посасывая хрипящую трубочку, он рассказал Кольцову, что барин ихний был хороший кобель, только тем и прославился на всю Донскую область. Кирилл состоял у него в егерях, все больше при собаках на псарне, и его мало касалась господская шкодливость. Но вот раз барину попалась на глаза Кириллова баба, и барин приказал ей ходить в дом, мыть полы.
– А уж мы все знали, что это за полы. Не она первая была поломойкой-то… Вот я и раздумался, что делать? Сперва бабу хотел порешить. Ну, слава богу, греха па душу не взял. Так и сяк прикинул, – ай, думаю, барин-то вечный? Очень простая дело! – оживился Кирилл. – Мало чего на охоте не случается. Скажем, иной раз бывает, охотник так с лошади хряснется, что – будь здоров! Сплю, а сам все вижу, как барин убился…
Кирилл замолк.
– Эх, зря хлеб, жгут! – покачал головой, глядя на зарево. – Ну, да уж теперь все равно, рука разошлась – не удержишь.
– Что ж, убился барин-то? – усмехнулся Кольцов.
– Убился. До смерти. Да он пьяным-пьян был, а лошадь-то – страсть, огонь! Как не убиться? Ну, конешно, – немного помолчав, продолжал Кирилл, – похоронили нашего барина, тут наследник приехал. А я еще давесь деньжонки-то сбирал; иду, стал быть, к молодому барину, кладу деньги на стол: так и так, дозвольте вольную! А ему не все равно? Ладно, говорит, согласен, выправляй пачпорт. Вот этак-то я и вышел в дворники! – закончил Кирилл.
– Ну, а баба-то что ж? Померла, что ли?
– Жива, – насупился Кирилл. – Только я с ней жить не схотел. Ну, спать, что ль, станем ложиться? – повернул он разговор. – Чай, уж время…
Дворник принес и постелил Кольцову сена, а сам полез на печь. Стало тихо, только на потолке все свиристел неугомонный сверчок.
– Кирилл, а Кирилл! – позвал Кольцов дворника.
– Чего? – откликнулся тот.
– А что, барин ваш не привозил себе сударушек из иных губерний? Не бывало ль воронежских?
– Всякие были, – зевнул Кирилл. – И воронежские, и тамбовские… Нешто всех упомнишь!
6
Наступила осень. В Воронеже все было по-прежнему. На Дворянской одиноко свистел злой ветер, громыхая на крышах оторванными листами железа и ломая кривые сучья тополей и каштанов.
Только к ноябрю вернулся Кольцов ко двору. Все, чем он занимался летом, было сделано вовремя и с выгодой. Отец казался добрым, хвалил сына, но однажды намекнул на женитьбу. Алексей резко ответил отцу, и они снова враждебно замолчали.
Потянулись дни одиночества. Кареев с полком был где-то в лагерях; Сребрянский сулился приехать к октябрю, да все не ехал, жил у своих стариков в Козловке, и, как он писал Кольцову, напоследок отъедался.
Неожиданно в декабре появился Кареев. Пришел мрачный, осунувшийся, обнял Кольцова и сообщил, что его полк отправляют в Польшу.
– Не чаял, – с возмущением и горечью говорил, – что придется мне играть отвратительную роль жандарма…
Кольцов туманно представлял себе, что происходит в Польше. То, что доводилось слышать в трактирах или на базаре и что определялось там двумя словами: «полячишки от рук отбились», на деле оказывалось небывалым по величине и размаху народным восстанием против царского владычества.
– У нашего главного будошника, – негодовал Кареев, разумея под «будошником» царя, – одна цель: задавить и уничтожить революцию. И это призвана сделать русская армия… Боже мой, как все стыдно и гадко!..
Он уехал мрачный и расстроенный, желая, чтобы его убили в этой ужасной, несправедливой войне.
В январе приехал Сребрянский. Несмотря на то, что он все лето «отъедался», вид у него был неважный: он кашлял, ржавые пятна румянца горели на щеках.
– Что ж ты, – сказал Кольцов, – так плохо отъелся?
Сребрянский засмеялся, закашлялся и махнул рукой.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
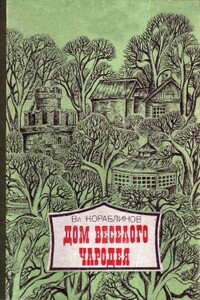
«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».
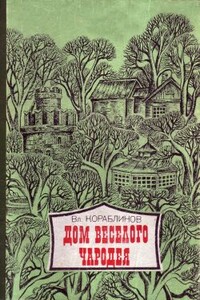
«… Наконец загремела щеколда, дверь распахнулась. Кутаясь в старенький серый платок, перед Мочаловым стояла довольно высокая, худощавая женщина. На сероватом, нездоровом лице резко чернели неаккуратно подведенные брови. Из-под платка выбивались, видно еще не причесанные, черные волосы. Синяя бархотка на белой худенькой шее должна была придать женщине вид кокетливой игривости. Болезненность и страдание провели множество тонких, как надтреснутое стекло, морщинок возле рта, на щеках. Все в ней было жалко и нехорошо.
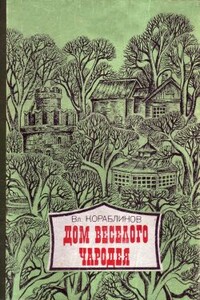
«… На реке Воронеже, по крутым зеленым холмам раскинулось древнее село Чертовицкое, а по краям его – две горы.Лет двести, а то и триста назад на одной из них жил боярский сын Гаврила Чертовкин. Много позднее на другой горе, версты на полторы повыше чертовкиной вотчины, обосновался лесной промышленник по фамилии Барков. Ни тот, ни другой ничем замечательны не были: Чертовкин дармоедничал на мужицком хребту, Барков плоты вязал, но горы, на которых жили эти люди, так с тех давних пор и назывались по ним: одна – Чертовкина, а другая – Баркова.
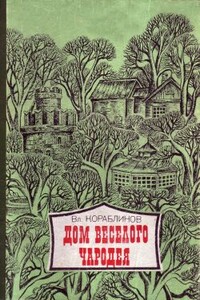
«… Валиади глядел в черноту осенней ночи, думал.Итак?Итак, что же будет дальше? Лизе станет лучше, и тогда… Но станет ли – вот вопрос. Сегодня, копая яму, упаковывая картины, он то и дело заглядывал к ней, и все было то же: короткая утренняя передышка сменилась снова жестоким жаром.Так есть ли смысл ждать улучшения? Разумно ли откладывать отъезд? Что толку в Лизином выздоровлении, если город к тому времени будет сдан, если они окажутся в неволе? А ведь спокойно-то рассудить – не все ли равно, лежать Лизе дома или в вагоне? Ну, разумеется, там и духота, и тряска, и сквозняки – все это очень плохо, но… рабство-то ведь еще хуже! Конечно, немцы, возможно, и не причинят ему зла: как-никак, он художник, кюнстлер, так сказать… «Экой дурень! – тут же обругал себя Валиади. – Ведь придумал же: кюнстлер! Никакой ты, брат, не кюнстлер, ты – русский художник, и этого забывать не следует ни при каких, пусть даже самых тяжелых, обстоятельствах!»Итак? …»Повесть также издавалась под названием «Русский художник».

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
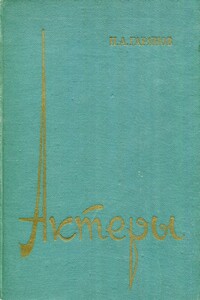
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.