Жизнь Кольцова - [18]
– Нет уж, позвольте мне, – потребовал решительно. – Грести, знаете, не на гуслях играть, вам тут за мной не угнаться!
Маленький Куликовский устроился на носу.
– Ну, гребцы, – скомандовал, – слушай меня: раз, два… запевай!
вольно полетела песня над синей водой.
Кольцов и Сребрянский сидели на корме. Сребрянский правил.
– Проклятая жизнь, – говорил с досадой, отрывисто. – Как ведь все получается неладно… Вот он, Феничка, к примеру, мечтает об императорской капелле. Бадрухин Степка – знаете, какой музыкант! А Ксенофонт? В нем все – и музыка, и поэзия…
Сребрянский зазевался, лодка заскрежетала днищем по песку.
– Правь, ворона! – громыхнул Феничка.
– А жизнь-ведьма, – продолжал Сребрянский, – сыграет прескверную штуку: все в попы пойдут.
– И вы пойдете? – спросил Кольцов.
– Я не пойду, – уверенно мотнул головой Сребрянский. – У меня своя линия… и меня с нее не свернешь!
За крутым поворотом реки начинался город с его домишками и церквами, словно прилепленными к крутым буграм. Послышались звуки бубна, балалаек, рожков. Из-за густых зарослей ветел выплыли с полдюжины больших, украшенных коврами и флагами лодок. Песельники и музыканты в ярких рубахах и шляпах, перевитых пунцовыми лентами, пели разудалую песню:
лихо выговаривали звонкие, заливистые тенора, и, дружно подхваченная, далеко по реке летела плясовая.
Большая, нарядно одетая компания сидела на скамьях, покрытых дорогими коврами. Это были гости богатого подрядчика и суконного фабриканта Башкирцева. Сам он, красивый, рослый, с бутылкой шипучего и стаканом в руке, стоял на носу передней лодки.
– Богословия! – гаркнул, когда лодки семинаристов поравнялись с веселой флотилией, и запел:
– Едят селедки, мерум пьют и Вакху дифирамб поют! – подхватил звонкий хор семинарских певцов.
Дружный хохот грянул на лодках: Феничка поймал брошенную Башкирцевым бутылку.
– Ба! Алеша! – увидев Кольцова, закричал Башкирцев. – Заворачивай к нам, ребята!
– О-ох! – пригорюнился Сребрянский. – Не по нашим зипунам боярские кафтаны…
– Не можем, Иван Сергеич! – отозвался Кольцов.
– Ко всенощной грядем! – отрываясь от бутылки, провозгласил Феничка.
9
По всему берегу, низко склоняясь к воде, росли старые ветлы. Солнце скрылось за городскими холмами, под ветлами сделалось сумрачно. На шатких мостках две мещанки колотили вальками белье.
– А что, господа, – предложил Сребрянский, – не махнуть ли ко мне? Чаишком побалуемся, почитаем… а?
– Мысля! – одобрил Феничка. – Это можно.
Сребрянский был своекоштным, то есть жил не в семинарском пансионе, а на квартире. У него часто собирались, пели, читали стихи, спорили, громоподобно хохотали, отчаянно дымили табаком.
– Господи! – вздыхала хозяйка, чистенькая старушка просвирня. – Опять табачищем начадили!
Комната была крохотная, с одним окном, выходящим в палисадник, заросший сиренью и пестрыми мальвами.
Сребрянский зажег свечу и плотно задернул оконные занавески.
– На всякий случай, – объяснил. – От недреманного ока начальства. Обо мне слава плохая. Отец ректор намедни говорит: «Ох, смотри, Сребрянский, допрыгаешься! Носить тебе армейскую амуничку…»
– Армейскую амуничку? – удивился Кареев. – Почему?
– Это он на моего братеня намекал, на Ивана, – нахмурился Сребрянский. – Его с последнего курса в солдаты забрили.
– За что же?
– За дерзость и вольнодумство. У него в тетрадке рассуждения о разумном и вольном устройстве государства обнаружили… Ну, да что об этом! Давайте лучше нашего гостя послушаем… Алексей Васильич! Пожалуйте, просим!
– Что вы! – покраснел Кольцов. – Я сам мечтал послушать… Так много наслышан о вашем кружке…
– Так ведь и мы кое-что о вас слыхивали! – улыбнулся Сребрянский.
– Просим! – загудел Феничка. – Всем миром просим!
– Что ж, господа, – согласился Кольцов. – Вы не подумайте, что я ломаюсь, боже сохрани! Я только не привык этак… в образованной компании… все стихотворцы… Неловко немножко. Ну да ничего! – тряхнул волосами. – Извольте…
запел, глядя на свечу. —
Сребрянский откинулся на спинку стула, закрыл глаза. «Как слова кладет, диво! Без вывертов, без жеманства… Словно бусы нижет…»
А Кольцов пел, не видя ничего, кроме вздрагивающего пламени свечи. Серые глаза его блестели, на щеках заиграл румянец; негромкий, чуть сипловатый голос звучал с удивительной искренностью. Еще не перегоревшее, еще не позабытое горе пело, жаловалось; в наивной доверчивости песня тянулась к людям…
– Да-а… – задумчиво протянул Сребрянский, когда Кольцов дочитал последнюю строку и умолк. – Это вам, братцы, не «цветнички»…
10
Стихотворцы в Воронеже водились во множестве. Гимназисты издавали рукописный альманах, называвшийся «Цветник нашей юности». Альбомы девиц были испещрены виньетками и меланхолическими стишками вроде:
Все это, конечно, было вздорное рукоделье маменькиных сынков. В иное время папеньки сделали бы им надлежащее внушение, но теперь мирились.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.
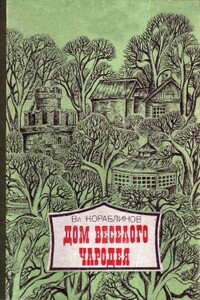
«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».
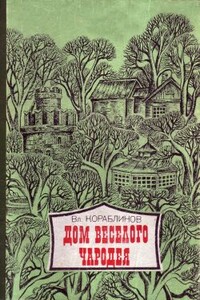
«… Наконец загремела щеколда, дверь распахнулась. Кутаясь в старенький серый платок, перед Мочаловым стояла довольно высокая, худощавая женщина. На сероватом, нездоровом лице резко чернели неаккуратно подведенные брови. Из-под платка выбивались, видно еще не причесанные, черные волосы. Синяя бархотка на белой худенькой шее должна была придать женщине вид кокетливой игривости. Болезненность и страдание провели множество тонких, как надтреснутое стекло, морщинок возле рта, на щеках. Все в ней было жалко и нехорошо.
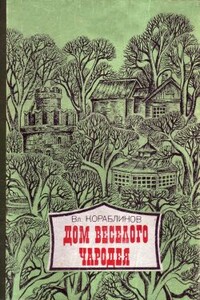
«… На реке Воронеже, по крутым зеленым холмам раскинулось древнее село Чертовицкое, а по краям его – две горы.Лет двести, а то и триста назад на одной из них жил боярский сын Гаврила Чертовкин. Много позднее на другой горе, версты на полторы повыше чертовкиной вотчины, обосновался лесной промышленник по фамилии Барков. Ни тот, ни другой ничем замечательны не были: Чертовкин дармоедничал на мужицком хребту, Барков плоты вязал, но горы, на которых жили эти люди, так с тех давних пор и назывались по ним: одна – Чертовкина, а другая – Баркова.
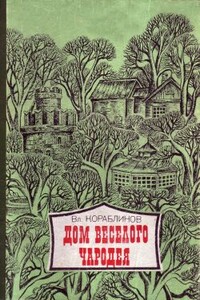
«… Валиади глядел в черноту осенней ночи, думал.Итак?Итак, что же будет дальше? Лизе станет лучше, и тогда… Но станет ли – вот вопрос. Сегодня, копая яму, упаковывая картины, он то и дело заглядывал к ней, и все было то же: короткая утренняя передышка сменилась снова жестоким жаром.Так есть ли смысл ждать улучшения? Разумно ли откладывать отъезд? Что толку в Лизином выздоровлении, если город к тому времени будет сдан, если они окажутся в неволе? А ведь спокойно-то рассудить – не все ли равно, лежать Лизе дома или в вагоне? Ну, разумеется, там и духота, и тряска, и сквозняки – все это очень плохо, но… рабство-то ведь еще хуже! Конечно, немцы, возможно, и не причинят ему зла: как-никак, он художник, кюнстлер, так сказать… «Экой дурень! – тут же обругал себя Валиади. – Ведь придумал же: кюнстлер! Никакой ты, брат, не кюнстлер, ты – русский художник, и этого забывать не следует ни при каких, пусть даже самых тяжелых, обстоятельствах!»Итак? …»Повесть также издавалась под названием «Русский художник».

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
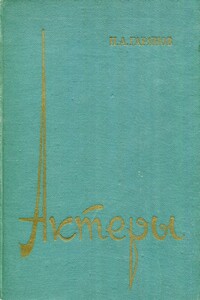
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.