Жизнь Давида - [3]
Если следовать по традиционному пути легенд разных культур, братья Давида должны были быть с ним жестоки, все время бранить его и насмехаться над ним. Иессей послал Давида в военный лагерь, чтобы передать еду для братьев, хлеб и зерно, а также десять сыров для их тысяченачальника. Братья услышали, что Давид спрашивает о вызове, брошенном Голиафом еврейскому войску, и, очевидно, его тон им не понравился.
Старший брат Елиав сказал юноше: «Зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид: что же я сделал? не слова ли это?» (I Цар. 17, 28–29). (По-английски этот диалог лучше переведен в Стандартном исправленном издании, тогда как Библия короля Иакова великолепно передает поэзию.)
Затем между братьями происходит серьезная, но довольно комичная семейная стычка. Ссора с Елиавом предвещает ссору с Голиафом.
Сейчас младенцам редко дают имя Голиаф; правда, имя Елиав мы тоже почти совсем забыли. Мы забыли его даже более основательно — Голиафами, а не Елиавами порой еще называют домашних животных. Впрочем, это имя довольно распространено в Израиле — оно более популярно, чем это можно предположить; на иврите оно означает что-то вроде «мой Бог — мой отец». Однако кажется, что это значение больше подходит любимцу Господа — легко и играючи идущему по жизни Давиду.
Когда Бог послал пророка Самуила в дом Иессея, чтобы помазать одного из братьев, пророк сразу заметил Елиава: «И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно, сей пред Господом помазанник Его!» (I Цар. 16, 6). Это напомнило Самуилу избрание первого царя, когда сильный и красивый деревенский парень Саул стоял «от плеч своих выше всего народа» (I Цар. 9, 2).
Но нет, оказывается, Елиав — это не тот, кто ему нужен. И старший брат канул в безвестность — Давид обрек его на гораздо более глубокое и безвозвратное забвение, чем Голиафа. Следующим Самуил проверяет второго брата, Аминадава: «И этого не избрал Господь» (I Цар. 16, 8). То же самое произошло с Саммой (Шаммаем) и другими семью старшими братьями, пока не позвали красивого и румяного отрока с «прекрасными глазами», пасшего овец.
По-настоящему захватывающие истории не всегда понятны — чего стоит путаница «Гамлета», неразбериха «Короля Лира» или менее возвышенный замысловатый сценарий «Вечного сна» с «дополнительным» убийством, которое не смог объяснить даже сам автор книги Реймонд Чандлер. Впечатляет даже то, что сцена с мальчиком, несущим сыр и лепешки в лагерь, и сцена, где Самуил осматривает отроков, довольно неряшливо организованы хронологически: если Давид уже был помазан, почему ни он, ни кто-то из его братьев, судя по всему, не вспоминает об этом факте? Нестыковки между частями повествования, кусочки, видимо, прилаженные поздним источником, — все это только подчеркивает стремительную и непокорную, как во сне, природу событий.
Итак, Давид стал играть на арфе[4] для царя Саула, и, когда он пел, его голос изгонял из Саула дурное настроение; потом он превратился в царского оруженосца, и Иессей по просьбе царя разрешил ему оставаться при дворе — но почему-то Давид опять превращается в пастушка, которого отец посылает отнести сыры. Давид побеждает Елиава, и Аминадава, и Самму, он побеждает Голиафа и даже Саула. В каком-то смысле всех одновременно. В изломанном и не всегда логичном повествовании Первой книги Царств эхо узкосемейных побед Давида над родственниками слышится в его победах в бою, и, наоборот, эхо военных побед витает над его действиями, когда он одолевает своих братьев и берет верх над царем. В смазанной хронологии ни одно приказание не имеет безоговорочной силы, и это придает повествованию своеобразный эффект — оно приобретает иррациональный оттенок. Масштаб главных сражений Давида таков, что они, происходящие непрерывно, имеют всемирное значение и в то же время связаны с его частной жизнью.
Елиав, Аминадав, Самма — ударение в этих именах, я думаю, должно падать на второй слог, как и в имени Голиаф. Ложное ощущение узнаваемости может усыпить внимание американского читателя: Давид, его прабабка Руфь, ее свекровь Ноеминь (Наоми), отец Давида Иессей — имена звучат так, будто этих людей мы встретили на свадьбе. При этом имена братьев менее привычны для нашего уха (хотя я встречал Самму), чем имя Голиафа. Три поколения назад у Руфи была сестра с варварским именем Орфа (почти невозможно удержаться, чтобы не переделать его в знакомое Офра или Опра). Нам так же трудно представить себе чувства Сохо и Верзеллия из Мехолы, сына Саула — Мемфивосфея, товарища Давида — Елеазара, сына Додо, который был сыном Ахохи, как трудно произнести их имена. Но и самим этим персонажам одно имя могло казаться более странным, чем другое. Мемфивосфей, к примеру, это ошибка писца, заменившего другое, еще более причудливое имя. Аминадав и Додо — далекие от нас люди в библейских одеждах, но Грегори Пек или Ричард Гир в хламидах и сандалиях, говорящие на высокопарном английском или на иврите в сопровождении субтитров, что, вероятно, должно указывать на их библейское происхождение, не менее от нас далеки. Во многом они больше похожи на бедуинов. Мы можем читать о библейских персонажах на английском языке эпохи Елизаветы или Якова, но от этого они не станут джентльменами и леди XVII века. Надо уважать чужеродность, как и причудливость жизни в изгнании.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.
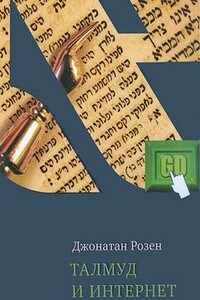
Что может связывать Талмуд — книгу древней еврейской мудрости и Интернет — продукт современных высоких технологий? Автор находит удивительные параллели в этих всеохватывающих, беспредельных, но и всегда незавершенных, фрагментарных мирах. Страница Талмуда и домашняя страница Интернета парадоксальным образом схожи. Джонатан Розен, американский прозаик и эссеист, написал удивительную книгу, где размышляет о талмудической мудрости, судьбах своих предков и взаимосвязях вещного и духовного миров.
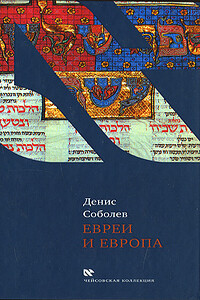
Белые пятна еврейской культуры — вот предмет пристального интереса современного израильского писателя и культуролога, доктора философии Дениса Соболева. Его книга "Евреи и Европа" посвящена сложнейшему и интереснейшему вопросу еврейской истории — проблеме культурной самоидентификации евреев в историческом и культурном пространстве. Кто такие европейские евреи? Какое отношение они имеют к хазарам? Есть ли вне Израиля еврейская литература? Что привнесли евреи-художники в европейскую и мировую культуру? Это лишь часть вопросов, на которые пытается ответить автор.
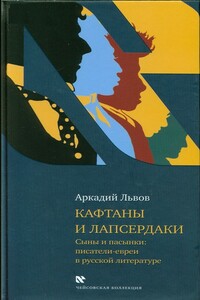
Очерки и эссе о русских прозаиках и поэтах послеоктябрьского периода — Осипе Мандельштаме, Исааке Бабеле, Илье Эренбурге, Самуиле Маршаке, Евгении Шварце, Вере Инбер и других — составляют эту книгу. Автор на основе биографий и творчества писателей исследует связь между их этническими корнями, культурной средой и особенностями индивидуального мироощущения, формировавшегося под воздействием механизмов национальной психологии.
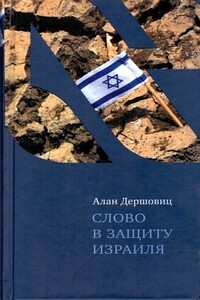
Книга профессора Гарвардского университета Алана Дершовица посвящена разбору наиболее часто встречающихся обвинений в адрес Израиля (в нарушении прав человека, расизме, судебном произволе, неадекватном ответе на террористические акты). Автор последовательно доказывает несостоятельность каждого из этих обвинений и приходит к выводу: Израиль — самое правовое государство на Ближнем Востоке и одна из самых демократических стран в современном мире.