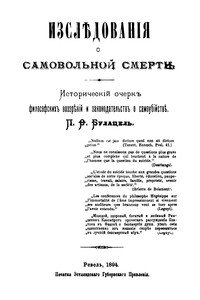Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность - [37]
Только в символическом и через символическое — каковое у художника всегда является изречением неизвестного ранее знака — воображаемое находит условия для того, чтобы выйти наружу и передаваться, а образ или греза, которые произведение искусства воплощает в творимом артефакте, ценой бесконечного недоразумения «говорят».
Вернемся к вопросу: откуда происходит нечто, преподносимое искусством познанию, и где оно обнаруживает свою действенность? В ответе, что его источником является самоанализ, который художник осуществляет в своих произведениях, особого смысла нет: самоанализ — всего лишь условие возможности художественного познания. Не больше смысла в ответе, что оно приходит — через самоанализ — из «глубин бессознательного»: этот ответ сводится к субстантивации бессознательного и к его представлению в виде сосуда, содержащего скрытый смысл, источник или причину некоего таящегося знания о себе. Ответ, что это нечто есть работа бессознательного, поднимает множество побочных проблем (например, чему в искусстве отдать приоритет—«свободе» первичных процессов или, наоборот, «сцеплению» вторичных?), но, что намного важнее, оставляет в неприкосновенности вопрос: откуда оно все-таки происходит?
В связи с этим уместно будет рассмотреть в качестве возможной модели самоанализ Фрейда — единственный убедительный исторический пример самоанализа, принесшего познавательные результаты. И прежде всего напомнить о том, что отличает очевидную автореферентность фрейдовского подхода от интроспекции Вундта. Когда Фрейд пишет Флиссу, что он нашел своего тирана и что тиран этот — психология, он уже понимает, что сей тиран не заставит его, подобно тому как заставил Вундта в «Началах физиологической психологии», строить объективную науку о субъекте. Приступая к работе над «Entwurf»>1 и понимая, насколько результаты могут пошатнуть надежду укоренить психологию в нейрофизиологии, Фрейд уже знает — поскольку он уже опубликовал в соавторстве с Брейером «Исследования по истерии»,—что психологический тиран явился к нему из клинического опыта. И два владеющих им стремления — они же его собственные пределы, о которых он пишет в том же письме к Флиссу,—заключаются в том, чтобы «во-первых, выяснить, какая форма отражает теорию умственной работы при введении в нее понятия количества, своеобразной экономики нервных сил, и, во-вторых, извлечь из психопатологии некоторую пользу для нормальной психологии»>2.
Вундт мог бы подписаться под первой программой, но никогда не подписался бы под второй. Признание подобного теоретического перехода между нормальным и патологическим поставило бы под сомнение декларировавшуюся им объективность интроспекции: как можно быть при этом уверенным, что наблюдение самого себя не приведет к теории, которая сама по себе будет патологической? И, наоборот, это признание является необходимой предпосылкой возможности самоанализа для того, кто хочет «выяснить, какая форма отражает теорию умственной работы»: здоровый субъект имеет в себе нечто патологическое— ненормальное, аномалию,—и это патологическое «знает больше» об умственной работе, чем знает о ней сам здоровый субъект — в том числе и субъект теории. Такова первая догадка, которая закладывает возможность самоанализа и даже делает его необходимым. Самоанализ — это, если угодно, форма интроспекции, но только свободная от иллюзии отражения или прозрачности. Гений Фрейда состоял в том, что он во всем — не только в клиническом наблюдении, но также и в наблюдении самого себя —ориентировался, помимо прочего, на собственное сопротивление. И что тем самым в первую очередь открывал? Факт сопротивления. Точно так же, когда истолкование сновидения об инъекции Ирме открывает ему, что в нем выразилось желание из его реальной жизни терапевта и теоретика, что он первым делом выводит из этого? Что сновидение осуществляет желание>3.
Можно привести множество примеров того, как Фрейд извлекает из чего-либо необъяснимого, каковое, как он заключает по наблюдениям над собой или над своими пациентами, противопоставляет клиническому или теоретическому истолкованию неустранимую в данный момент темноту, следующий урок: эта темнота обладает значением как таковая, вне зависимости от того, что она скрывает. Разумеется, работа Фрейда на этом не прекращается: значимое препятствие всегда оказывается для него сигналом, который указывает дальнейший путь. И все-таки даже когда он вступает на этот путь, сигнал продолжает напоминать о себе именно в качестве сигнала. Этот автореферентный стержень очень характерен для фрейдовского подхода. Лакан продемонстрировал его родство с картезианским ме
тодическим сомнением>4. Чувственные иллюзии, Бог-обманщик, сновидения — все заставляет меня сомневаться во всем, за исключением самого факта сомнения. И о том, в чем я сомневаюсь, я наверняка мыслю, а если я мыслю, следовательно, я существую,— такова, напомним, лакановская версия картезианского cogito. «Аналогичным образом,—продолжает Лакан,— Фрейд, когда он сомневается — ведь в конце концов это его сновидения, и сомневается в первую очередь он сам, —уверен, что дело при этом касается мысли, бессознательной мысли, то есть мысли, которая обнаруживается как отсутствующая. Именно на это место он призывает (когда имеет дело с другими)

Ни для кого не секрет, что современные СМИ оказывают значительное влияние на политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь общества. Но можем ли мы безоговорочно им доверять в эпоху постправды и фейковых новостей?Сергей Ильченко — доцент кафедры телерадиожурналистики СПбГУ, автор и ведущий многочисленных теле- и радиопрограмм — настойчиво и последовательно борется с фейковой журналистикой. Автор ярко, конкретно и подробно описывает работу российских и зарубежных СМИ, раскрывает приемы, при помощи которых нас вводят в заблуждение и навязывают «правильный» взгляд на современные события и на исторические факты.Помимо того что вы познакомитесь с основными приемами манипуляции, пропаганды и рекламы, научитесь отличать праву от вымысла, вы узнаете, как вводят в заблуждение читателей, телезрителей и даже радиослушателей.
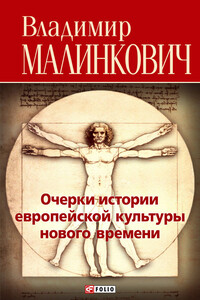
Книга известного политолога и публициста Владимира Малинковича посвящена сложным проблемам развития культуры в Европе Нового времени. Речь идет, в первую очередь, о тех противоречивых тенденциях в истории европейских народов, которые вызваны сложностью поисков необходимого равновесия между процессами духовной и материальной жизни человека и общества. Главы книги посвящены проблемам гуманизма Ренессанса, культурному хаосу эпохи барокко, противоречиям того пути, который был предложен просветителями, творчеству Гоголя, европейскому декадансу, пессиместическим настроениям Антона Чехова, наконец, майскому, 1968 года, бунту французской молодежи против общества потребления.

Произведения античных писателей, открывающие начальные страницы отечественной истории, впервые рассмотрены в сочетании с памятниками изобразительного искусства VI-IV вв. до нашей эры. Собранные воедино, систематизированные и исследованные автором свидетельства великих греческих историков (Геродот), драматургов (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан), ораторов (Исократ,Демосфен, Эсхин) и других великих представителей Древней Греции дают возможность воссоздать историю и культуру, этногеографию и фольклор, нравы и обычаи народов, населявших Восточную Европу, которую эллины называли Скифией.

Сборник статей социолога культуры, литературного критика и переводчика Б. В. Дубина (1946–2014) содержит наиболее яркие его работы. Автор рассматривает такие актуальные темы, как соотношение классики, массовой словесности и авангарда, литература как социальный институт (книгоиздание, библиотеки, премии, цензура и т. д.), «формульная» литература (исторический роман, боевик, фантастика, любовный роман), биография как литературная конструкция, идеология литературы, различные коммуникационные системы (телевидение, театр, музей, слухи, спорт) и т. д.

В книге собраны беседы с поэтами из России и Восточной Европы (Беларусь, Литва, Польша, Украина), работающими в Нью-Йорке и на его литературной орбите, о диаспоре, эмиграции и ее «волнах», родном и неродном языках, архитектуре и урбанизме, пересечении географических, политических и семиотических границ, точках отталкивания и притяжения между разными поколениями литературных диаспор конца XX – начала XXI в. «Общим местом» бесед служит Нью-Йорк, его городской, литературный и мифологический ландшафт, рассматриваемый сквозь призму языка и поэтических традиций и сопоставляемый с другими центрами русской и восточноевропейской культур в диаспоре и в метрополии.