Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность - [23]
«Переход от девственницы к новобрачной» может быть понят двояко: с точки зрения эротической тематики название картины отсылает к дефлорации, к первому половому акту и к их живописному переводу— к становлению девственного холста картиной. А с точки зрения хронологии оно говорит, что картина является промежуточной между двумя рисунками под названием «Девственница» и картиной под названием «Новобрачная». И это означает, что эстетическая судьба этой картины в становлении неотделима от автобиографической судьбы ее автора, судьбы необратимой.
Для личной судьбы человека, тем более если она регулярно записывается (как автобиография), необратимость является не более чем временной фигурой: таков один из уроков психоанализа, показавшего, что «продвижение вперед» возможно, помимо прочего, посредством регрессии и последействий. Однако необратимость, уходящие годы и старение составляют необходимое предварительное условие, с которым должны соотноситься все прочие фигуры времени. И для Дюшана-живописца эта необратимость особенно настоятельна — причем не из-за чувства, что надо спешить, обычно приходящего с возрастом, а по причине эстетического контекста, в который он поместил свое становление-живописцем.
Этим контекстом является авангард, каковой есть не что иное, как сознание эстетической необратимости, давящей изнутри на практику всякого амбициозного живописца. Со времен Курбе говорится о том, что эстетическое суждение отныне ни де-юре, ни де-факто не может быть отделено от его исторической записи — таков элементарный смысл модернизма. В 1912 году ни один живописец из тех, кому приписывается значимая роль в истории новейшего искусства (включая Матисса), не обходится без острого сознания необходимости эстетического обновления. Футуристы выстроят на этой основе идеологию, отождествив собственную необратимость искусства с лирическим — и к тому же сомнительным — понятием технологического прогресса. Затем дадаисты, чтобы обозначить свою радикальную оппозицию футуризму, будут вынуждены отказаться как от всякой проекции в будущее, так и от всякого возвращения назад в пользу фантазма «конечной точки», эстетический смысл которой возможен лишь при условии открытой отсылки к истории. И когда историкам искусства потребуется объединить в общем понятии авангардистские направления, вышедшие из кубизма,—футуризм, симультанное искусство, конструктивизм, супрематизм, орфизм, неопласти-цизм, дадаизм, унизм и т.д.—из-под их пера явится тавтологический термин «исторический авангард». Что же касается кубизма, который в августе 1912 года остается для Дюшана непосредственным контекстом его искусства, то он уже утверждается как переходное движение, как эстетический мост, по которому проходит история модернизма. Только теоретики вроде Глеза и Метценже, влияния которых Дюшан избежал, скрывшись в Мюнхене, стремятся это движение остановить. Пикассо и Брак только что изобрели коллаж («Натюрморт с плетеным стулом» появился в начале года), который принесет некубистское потомство: среди прочего, контррельефы Татлина и Мерц-кол-лажи Швиттерса. Мондриан, с января живущий в Париже, находится на пути освоения кубизма, которое, потребовав от него восхождения к уроку Сезанна, очень быстро выведет его к совершенно иной практике. И наконец, Малевич, который будучи вдалеке от Парижа узнает о кубизме с некоторым запозданием, преисполнится, однако, такой потребности в спешке, что не только очень быстро перейдет к ку-бофутуризму и алогическому кубизму, но и передати-рует 1911 годом некоторые свои кубистские картины, в действительности относящиеся к 1913-му.
«Переход от девственницы к новобрачной» как нельзя явственнее выражает ощущение необратимости, охватившее Дюшана в августе 1912 года. Художник понимает, что если его становлению-жи-вописцем сужден некий исторический резонанс, то обратного хода оно иметь не будет. Преодоление кубизма, как можно быстрее, приходит здесь к точке невозвращения: живописец, каковым Дюшан желает стать, должен обрести свою идентичность впереди себя самого, как «ребенок-светоч» или «комета с хвостом впереди».
Переход...
Если рассмотреть название, иконографическую тему и пластическую фактуру «Перехода от девственницы к новобрачной» в комплексе, учитывая вместе с тем хронологическое положение этой картины между «Девственницей» и «Новобрачной», то в ней можно отметить переплетение ряда временных фигур, заслуживающее анализа. Хронологическое положение картины наводит на мысль о том, что становление художника направлялось сознанием личной судьбы, связанной с эстетической и исторической необратимостью авангарда. Напрашивается сравнение с «Грустным молодым человеком в поезде», которое приведет нас к выводу, что временная фигура «Перехода» существенно отличается от той, что заботила Дюшана девятью месяцами ранее. Тогда, как мы помним, Дюшан раздваивался. Имелось, прежде всего, движение поезда (кубистское), в пределах которого, параллельно истории (но, возможно, в обратном направлении), перемещался молодой человек — грустный, вне сомнения, потому, что ему пришлось запрыгивать в поезд на ходу. Дюшан представлял себя молодым художником, включившимся в кубистское движение, и оставлял нас в нерешительности по поводу направления своего движения: может быть, его движение присоединялось к движению поезда с тем, чтобы перенять развитую кубизмом скорость; а может быть, расходилось с ним как ностальгическое (грустное) желание вернуться — так думает Жан Клер — к традиции «перспективистов», безразличной к движению современности. Как мы помним, Дюшан изображал себя молодым художником-кубистом, преисполненным противоречивых желаний, в то же время уделяя себе позицию неподвижного, стоящего на железнодорожной насыпи или перроне, наблюдателя происходящего. Это Дюшан воображаемый, поддерживаемый фантазматическим представлением о субъекте высказывания, способном находиться вне истории и вольно комментировать исторические относительности с абсолютной точки зрения «свидете-ля-очевидца». В «Переходе от девственницы к новобрачной» этот фантазм раздвоения исчезает. Дюшан отдает себе отчет в том, что не в его силах уклониться от истории и что, коль скоро картина призвана осуществить переход как в его жизни, так и в истории живописи, он (живописец) должен вложить в нее себя без остатка. Воображаемая позиция «свидетеля-очевидца» сохраняется, но уже не мыслится как позиция неподвижного наблюдателя, а предвосхищается как последующий момент истории живописи, когда зрители создадут картину или, что то же самое, «создадут задержку» («использовать задержку вместо картины»). «Переход», в названии которого заявлена еще не написанная «Новобрачная», предвосхищает ее, предвидит картину в прошедшем времени и ретроактивный вердикт будущего. И это последняя временная фигура «Перехода», та же самая, что и в «Новобрачной», свидетельствующая о том, что при всей своей необратимости история искусства допускает определенную форму «регрессии»: не возвращение

Сталин, потрясенный стихами Мандельштама и обсуждающий его талант с Пастернаком, брежневское политбюро, которое высылает Бродского из СССР из-за невозможности сосуществовать в одной стране с великим поэтом, – популярные сюжеты, доказывающие особый статус Поэта в русской истории и признание его государством поверх общих конвенций. Детальная реконструкция этих событий заставляет увидеть их причины, ход и смысл совершенно иначе.

В первые послевоенные годы на страницах многотиражных советскихизданий (от «Огонька» до альманахов изобразительного искусства)отчетливо проступил новый образ маскулинности, основанный наидеалах солдата и отца (фигуры, почти не встречавшейся в визуальнойкультуре СССР 1930‐х). Решающим фактором в формировании такогообраза стал катастрофический опыт Второй мировой войны. Гибель,физические и психологические травмы миллионов мужчин, их нехваткав послевоенное время хоть и затушевывались в соцреалистическойкультуре, были слишком велики и наглядны, чтобы их могла полностьюигнорировать официальная пропаганда.
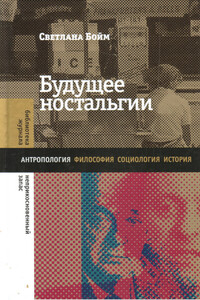
Может ли человек ностальгировать по дому, которого у него не было? В чем причина того, что веку глобализации сопутствует не менее глобальная эпидемия ностальгии? Какова судьба воспоминаний о Старом Мире в эпоху Нового Мирового порядка? Осознаем ли мы, о чем именно ностальгируем? В ходе изучения истории «ипохондрии сердца» в диапазоне от исцелимого недуга до неизлечимой формы бытия эпохи модерна Светлане Бойм удалось открыть новую прикладную область, новую типологию, идентификацию новой эстетики, а именно — ностальгические исследования: от «Парка Юрского периода» до Сада тоталитарной скульптуры в Москве, от любовных посланий на могиле Кафки до откровений имитатора Гитлера, от развалин Новой синагоги в Берлине до отреставрированной Сикстинской капеллы… Бойм утверждает, что ностальгия — это не только влечение к покинутому дому или оставленной родине, но и тоска по другим временам — периоду нашего детства или далекой исторической эпохе.

Новшества в культуре сопровождаются появлением слов, не только пополняющих собою социальный речевой обиход, но и постепенно меняющих представление общества о самом себе. Как соотносятся в общественном сознании ценности традиции с инокультурным и иноязычным «импортом»? Чем чревато любопытство и остроумие? Почему русский царь пропагандирует латынь, аристократы рассуждают о народности, а академик Б. А. Рыбаков ищет — и находит — в славянском язычестве крокодилов? — на эти и другие вопросы пытается ответить автор книги.
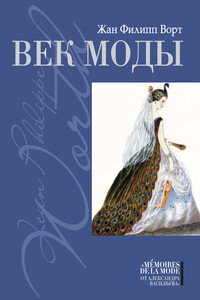
Эту книгу Жан Филипп Ворт посвятил своему отцу – Чарльзу Фредерику Ворту, первому всемирно известному дизайнеру, создателю моды Haute Couture, который одевал самых богатых и влиятельных женщин своего времени: представительниц королевских династий и жен американских миллионеров. Ч. Ф. Ворту принадлежит немало изобретений в сфере модного бизнеса. Его первым стали считать не обычным производителем одежды, а настоящим художником. Жан Филипп увлекательно рассказывает об этом золотом веке моды, о работе и успехах их Дома моды, основанном в 1857-м и просуществовавшем почти сто лет, до 1956 года.
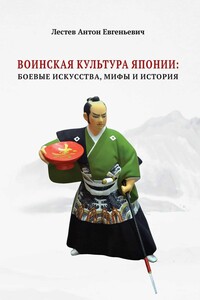
Монография посвящена изучению традиций и социокультурных практик боевых искусств в контексте становления и эволюции воинской культуры Японии.© Лестев А.Е., 2019.