Житие Дон Кихота и Санчо - [51]
И вот стрелкам пришлось смириться с тем, что Дон Кихот безумен, а цирюльнику пришлось признать таз шлемом за мзду в восемь реалов, которые втихомолку уплатил ему священник; а начни он с этого, и распри бы не было, потому как не сыщется такой цирюльник, будь он хоть сто раз антидонкихо- товец и тазозащитник, который за восемь реалов не объявит шлемами все тазы, какие только есть, были и будут на свете, особливо же если предварительно намять ему бока за то, что держался противоположной точки зрения. И как же хорошо знал священник способ, которым можно заставить цирюльников исповедаться в своей вере; цирюльники ведь недалеко ушли от угольщиков! Не знаю, почему вера цирюльника не вошла в поговорку, подобно вере угольщика.>108 Было бы вполне заслуженно.
И вот утихла распря, во время которой те, кто прежде насмехались над Дон Кихотом, сражались, им вдохновленные, за веру, которой не разделяли; потом наш Рыцарь всех угомонил, и тут было решено засадить его в клетку; участники этой затеи принялись за дело, для чего перерядились так, чтобы он их не узнал. Только перерядившись, насмешники могут засадить Дон Кихота в клетку. Поместили его в клетку, заколотили досками и вытащили из комнаты на плечах, а маэсе Николас при этом городил всякий вздор, чтобы Дон Кихот поверил, что околдован; он и поверил. А затем взгромоздили клетку на телегу, запряженную волами.
Глава XLVII
Заперт в деревянную клетку, которую везут на телеге, запряженной волами! Много замечательных рыцарских историй прочитал Дон Кихот, но не читывал, не видывал и не слыхивал, чтобы странствующих рыцарей похищали подобным образом: обыкновенно «волшебники уносят их по воздуху с удивительной быстротой, окутав серым или черным облаком или посадив на огненную колесницу…». Но дело в том, что в Донкихотово время рыцарство и волшебство «шли не по тем путям, по которым они шли в древние времена»; и надлежало им идти такими путями, дабы свершился до конца шутовской крестный путь нашего Рыцаря.
Свет вынуждает рыцарей странствовать в клетке и с тою скоростью, на какую способны волы. И притворяется вдобавок, что льет слезы при этом зрелище, как притворились трактирщица, ее дочка и Мариторнес. И телега двинулась в путь, по бокам ее шли стрелки, а Санчо следовал на осле, ведя на поводу Росинанта. «Дон Кихот со связанными руками сидел в клетке, прислонившись к решетке и вытянув ноги, столь терпеливый и безмолвный, словно не был человеком из плоти».[31] Само собой, он таковым и не был, он был человеком духа. Вот приключение, которое в очередной раз побуждает нас восхищаться Дон Кихотом, его безмолвием и его терпением.
И крестный путь его на том не кончился; но, вдобавок ко всему, когда ехал он таким образом, повстречался ему некий каноник, у коего здравого смысла было больше, чем следует. И Дон Кихот с места в карьер явил простодушно этому канонику всю глубину своего героизма, когда, представляясь, назвался странствующим рыцарем, и не из числа забытых славой, а из числа тех, чьи имена она начертает «в храме бессмертия, дабы послужили они образцом и примером для грядущих веков[32]».
О героический мой Рыцарь, ты заперт в клетке, влекомой медлительными волами, но, однако же, веришь, — и правильно делаешь! — что имя твое будет начертано в храме бессмертия, дабы служить образцом будущим векам! Изумился каноник, услышав речи Дон Кихота, а того более, речи священника, подтвердившего сказанное Рыцарем; и тут вдруг лукавец Санчо возьми да и вылези со своими сомнениями насчет того, что господин его околдован, — он ведь и ест, и пьет, и справляет естественные нужды; и, обратившись прямо к священнику, без околичностей обвинил его в зависти.
Ты попал в цель, верный оруженосец, ты попал в цель; зависть и одна только зависть причиной тому, что господина твоего засадили в клетку; зависть, вырядившаяся в одеяния любви к ближнему; зависть разумников, которым ненавистно героическое безумие; зависть, превратившая здравый смысл в дес- пота–уравнителя. Рабами этого деспота были ц каноник, и священник — неудивительно! — вот они и проехали вперед, чтобы побеседовать, и каноник наплел с три короба банальных и пустопорожних словес по поводу литературы.
И какой же насквозь кастильской была та беседа меж каноником и священником! Когда общаются и соприкасаются друг с другом столь пробково- дубовые умы, кора, их покрывающая, не сходит на нет, а становится еще более заматерелой, подобно тому как мозоль не сходит с кожи, а только твердеет, когда обувь натирает ногу. То‑то они возрадовались, обнаружив при встрече, какие оба разумники! Видно, чтобы этой породе открылось извечно человеческое, а вернее божественное, необходимо, чтобы пробковая оболочка, стиснувшая душу, дала трещину под действием безумия либо чтобы душа сквозь эту оболочку прорвалась наружу под действием деревенского простодушия. Ума им хватает, вот чего им не хватает, так это духовности. Они агрессивно благоразумны, и христианство, которое, по собственному их утверждению, исповедуют, в сущности всего лишь самый грубый материализм, какой только можно себе представить. Им недостаточно ощущать Бога, они хотят, чтобы им доказали математически, что Он существует, и, более того, им нужно это доказательство проглотить.
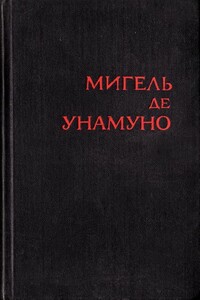
Библейская легенда о Каине и Авеле составляет одну из центральных тем творчества Унамуно, одни из тех мифов, в которых писатель видел прообраз судьбы отдельного человека и всего человечества, разгадку движущих сил человеческой истории.…После смерти Хоакина Монегро в бумагах покойного были обнаружены записи о темной, душераздирающей страсти, которою он терзался всю жизнь. Предлагаемая читателю история перемежается извлечениями из «Исповеди» – как озаглавил автор эти свои записи. Приводимые отрывки являются своего рода авторским комментарием Хоакина к одолевавшему его недугу.
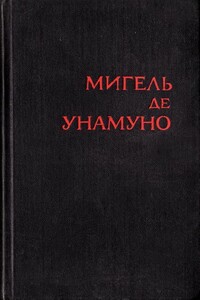
Своего рода продолжение романа «Любовь и педагогика».Унамуно охарактеризовал «Туман» как нивола (от исп. novela), чтобы отделить её от понятия реалистического романа XIX века. В прологе книги фигурирует также определение «руман», которое автор вводит с целью подчеркнуть условность жанра романа и стремление автора создать свои собственные правила.Главный персонаж книги – Аугусто Перес, жизнь которого описывается метафорически как туман. Главные вопросы, поднимаемые в книге – темы бессмертия и творчества.
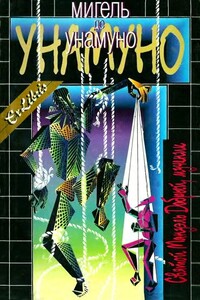
Чтобы правильно понять замысел Унамуно, нужно помнить, что роман «Мир среди войны» создавался в годы необычайной популярности в Испании творчества Льва Толстого. И Толстой, и Унамуно, стремясь отразить всю полноту жизни в описываемых ими мирах, прибегают к умножению центров действия: в обоих романах показана жизнь нескольких семейств, связанных между собой узами родства и дружбы. В «Мире среди войны» жизнь течет на фоне событий, известных читателям из истории, но сама война показана в иной перспективе: с точки зрения людей, находящихся внутри нее, людей, чье восприятие обыкновенно не берется в расчет историками и самое парадоксальное в этой перспективе то, что герои, живущие внутри войны, ее не замечают…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
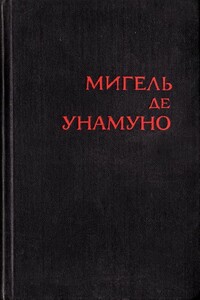
«– Настоящий кабальеро не должен, не может снести такое оскорбление!Услышав, что речь идет о настоящем кабальеро, Анастасио наклонил голову, понюхал розу у себя в петлице и сказал с улыбкой:– Я раздавлю эту гадину…».

В этой книге представлены произведения крупнейших писателей Испании конца XIX — первой половины XX века: Унамуно, Валье-Инклана, Барохи. Литературная критика — испанская и зарубежная — причисляет этих писателей к одному поколению: вместе с Асорином, Бенавенте, Маэсту и некоторыми другими они получили название "поколения 98-го года".В настоящем томе воспроизводятся работы известного испанского художника Игнасио Сулоаги (1870–1945). Наблюдательный художник и реалист, И. Сулоага создал целую галерею испанских типов своей эпохи — эпохи, к которой относится действие публикуемых здесь романов.Перевод с испанского А. Грибанова, Н. Томашевского, Н. Бутыриной, B. Виноградова.Вступительная статья Г. Степанова.Примечания С. Ереминой, Т. Коробкиной.

"В настоящее время большая часть философов-аналитиков привыкла отделять в своих книгах рассуждения о морали от мыслей о науке. Это, конечно, затрудняет понимание того факта, что в самом центре и этики и философии науки лежит общая проблема-проблема оценки. Поведение человека может рассматриваться как приемлемое или неприемлемое, успешное или ошибочное, оно может получить одобрение или подвергнуться осуждению. То же самое относится и к идеям человека, к его теориям и объяснениям. И это не просто игра слов.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

Эта книга — сжатая история западного мировоззрения от древних греков до постмодернистов. Эволюция западной мысли обладает динамикой, объемностью и красотой, присущими разве только эпической драме: античная Греция, Эллинистический период и императорский Рим, иудаизм и взлет христианства, католическая церковь и Средневековье, Возрождение, Реформация, Научная революция, Просвещение, романтизм и так далее — вплоть до нашего времени. Каждый век должен заново запоминать свою историю. Каждое поколение должно вновь изучать и продумывать те идеи, которые сформировало его миропонимание. Для учащихся старших классов лицеев, гимназий, студентов гуманитарных факультетов, а также для читателей, интересующихся интеллектуальной и духовной историей цивилизации.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.

М.Н. Эпштейн – известный филолог и философ, профессор теории культуры (университет Эмори, США). Эта книга – итог его многолетней междисциплинарной работы, в том числе как руководителя Центра гуманитарных инноваций (Даремский университет, Великобритания). Задача книги – наметить выход из кризиса гуманитарных наук, преодолеть их изоляцию в современном обществе, интегрировать в духовное и научно-техническое развитие человечества. В книге рассматриваются пути гуманитарного изобретательства, научного воображения, творческих инноваций.