Житие Дон Кихота и Санчо - [4]
Но как раз этого‑то качества: не бояться попасть в комическое, смешное положение — нам недостает больше всего. Устрашать нас тем, что мы смешны, — вот оно, оружие всех презренных бакалавров, цирюльников, священников, каноников и герцогов, скрывающих от нас, где находится Гроб Рыцаря Безумств. Рыцаря, над которым смеялся весь свет, но который сам не отпустил ни единой шутки. Он был слишком велик духом, чтобы размениваться на остроты. Смех он вызывал своей серьезностью.
Итак, дружище, приступай к делу, возьми на себя роль Петра Пустынника,>5 зови людей присоединяться к тебе, присоединяться к нам, и отправимся все вместе завоевывать Гроб Рыцарев, хотя и не знаем, где он находится. Сам крестовый поход приведет нас к святому месту.
И едва лишь святое воинство тронется в путь, ты увидишь, как загорится в небе новая звезда,>6 видимая лишь крестоносцам, лучезарная и звучащая звезда, и в долгой, объемлющей нас со всех сторон ночи она запоет для нас новую песнь; и звезда эта пойдет по небу, едва только тронется в путь крестоносное воинство; а когда поход завершится победой или когда все крестоносцы погибнут (и возможно, что гибель — единственный способ одержать подлинную победу), — тогда звезда упадет с неба, и место, куда она упадет, будет могилою Дон Кихота. Гроб Дон Кихота там, где встретит смерть крестоносное воинство.
А там, где гроб, там и колыбель, там начало всех начал. И там вновь загорится в небе лучезарная и звучащая звезда.
И не спрашивай меня ни о чем более, дорогой друг. Когда ты вызываешь меня на разговор о подобных предметах, то по твоей милости со дна моей души, исстрадавшейся от пошлости, которая обступает и осаждает меня со всех сторон, исстрадавшейся от лжи, в которой мы барахтаемся, забрызгивая грязью друг друга, исстрадавшейся ото всех подлостей, которые ранят, терзают и удушают нас, — со дна моей исстрадавшейся души подымаются разбуженные тобой бессмысленные видения, алогичные идеи, неведомые мыели и образы, и я не только не знаю, каково их значение, но и не думаю в нем разбираться.
Что ты хочешь сказать этим? — поминутно спрашиваешь ты меня. А я отвечаю тебе: почем же мне знать?
Нет, нет, добрый мой друг! Чаще всего я и сам не знаю, что хочу сказать каким‑нибудь нежданным соображением, которым одарила меня игра ума и которым я делюсь с тобой; или по крайней мере именно я‑то этого и не знаю. Во мне словно бы сидит кто‑то, и диктует мне внезапные мысли, и осеняет озарениями. Я повинуюсь ему, но не углубляюсь в себя, чтобы взглянуть ему в лицо и спросить его об имени. Я знаю только одно: если бы я увидал его в лицо и если бы он мне назвался, я умер бы, чтобы вместо меня жил он.
Мне стыдно оттого, что мне не раз случалось создавать вымышленных героев, выдумывать романных персонажей, в чьи уста можно было бы вложить то, чего от себя я говорить не решался, — и вот они словно в шутку высказывали то, к чему я отношусь более чем серьезно.
Впрочем, ты… ты хорошо знаешь меня, и тебе известно, что вымученные парадоксы, нарочитая экстравагантность и оригинальничанье — это нечто абсолютно мне чуждое, что бы там ни думала обо мне дюжина каких‑то болванов. Мой добрый и единственный друг, друг без каких бы то ни было оговорок, мы с тобою не раз, наедине, пытались выяснить, что такое безумие, и обсуждали постановку этой темы в ибсеновском «Бранде», духовном детище Кьеркегора,>7 думали о его одиночестве. И мы пришли к выводу, что любое безумие перестает быть безумием, когда оно становится коллективным, овладевает целым народом, когда это, быть может, безумие, охватившее все человечество. Если галлюцинации подвержен коллектив, социальный человеческий организм, народ, то галлюцинация превращается в реальность, в нечто внешнее по отношению к каждому из галлюцинирующих. И ты, и я, мы оба согласны, что приспела необходимость внушить массам, внушить народу, внушить нашему испанскому народу какую‑то безумную идею; безумную идею, позаимствованную у одного из его безумных сынов, и безумного всерьез, а не на шутку. Безумного, но не глупца.
Мы оба, дорогой мой друг, всегда возмущаемся, слыша, что именуют у нас здесь фанатизмом, ибо, к нашему с тобой несчастью, это отнюдь не фанатизм. Нет, никак не может быть фанатизмом то, что регламентируется и сдерживается, вводится в рамки и направляется бакалаврами, священниками, цирюльниками, канониками и герцогами; не может быть фанатизмом то, что выступает под знаменем логических формул, вооружается программой, ставит перед собой на завтрашний день определенную задачу, которую со всей методичностью изложит тебе какой‑нибудь оратор.
Помнишь, как‑то раз мы с тобой увидали с десяток молодых людей, столпившихся вокруг своего товарища; он призывал их: «Пошли, ребята! Мы такого покажем!..» — и они дружно последовали за ним. И это было как раз то, чего мы с тобой так страстно желаем: чтобы народ, собравшись толпою, с кличем: «Мы такого покажем!..» — двинулся наконец вперед. А если какой–ни- будь бакалавр, какой‑нибудь цирюльник, какой‑нибудь священник, какой‑нибудь каноник или какой‑нибудь герцог вздумал бы остановить их, говоря: «Дети мои! Все это прекрасно, я вижу, что вы преисполнены героизма, что вы пылаете священным негодованием, и я присоединяюсь к вам, но, прежде чем все мы, вы и я вместе с вами, двинемся в путь с целью «показать такого…», нам, согласитесь, не мешало бы прийти к единому мнению относительно того, что же, собственно, мы хотим «показать». Что это значит: «Мы такого покажем!..»?» — если бы кто‑нибудь из упомянутых мной мошенников попытался остановить толпу вышеуказанными словесами, то его надо было бы тут же сбить с ног и всем, шагая по нему, опрокинутому, растоптать его, — с этого оно и началось бы, героическое «показать такого…».
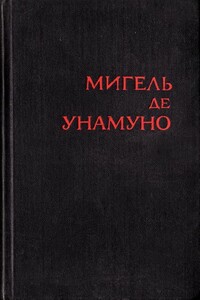
Библейская легенда о Каине и Авеле составляет одну из центральных тем творчества Унамуно, одни из тех мифов, в которых писатель видел прообраз судьбы отдельного человека и всего человечества, разгадку движущих сил человеческой истории.…После смерти Хоакина Монегро в бумагах покойного были обнаружены записи о темной, душераздирающей страсти, которою он терзался всю жизнь. Предлагаемая читателю история перемежается извлечениями из «Исповеди» – как озаглавил автор эти свои записи. Приводимые отрывки являются своего рода авторским комментарием Хоакина к одолевавшему его недугу.
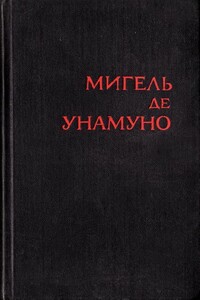
Своего рода продолжение романа «Любовь и педагогика».Унамуно охарактеризовал «Туман» как нивола (от исп. novela), чтобы отделить её от понятия реалистического романа XIX века. В прологе книги фигурирует также определение «руман», которое автор вводит с целью подчеркнуть условность жанра романа и стремление автора создать свои собственные правила.Главный персонаж книги – Аугусто Перес, жизнь которого описывается метафорически как туман. Главные вопросы, поднимаемые в книге – темы бессмертия и творчества.

В этой книге представлены произведения крупнейших писателей Испании конца XIX — первой половины XX века: Унамуно, Валье-Инклана, Барохи. Литературная критика — испанская и зарубежная — причисляет этих писателей к одному поколению: вместе с Асорином, Бенавенте, Маэсту и некоторыми другими они получили название "поколения 98-го года".В настоящем томе воспроизводятся работы известного испанского художника Игнасио Сулоаги (1870–1945). Наблюдательный художник и реалист, И. Сулоага создал целую галерею испанских типов своей эпохи — эпохи, к которой относится действие публикуемых здесь романов.Перевод с испанского А. Грибанова, Н. Томашевского, Н. Бутыриной, B. Виноградова.Вступительная статья Г. Степанова.Примечания С. Ереминой, Т. Коробкиной.
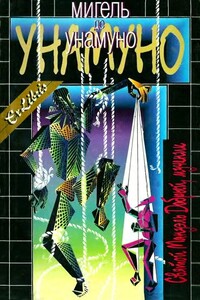
Чтобы правильно понять замысел Унамуно, нужно помнить, что роман «Мир среди войны» создавался в годы необычайной популярности в Испании творчества Льва Толстого. И Толстой, и Унамуно, стремясь отразить всю полноту жизни в описываемых ими мирах, прибегают к умножению центров действия: в обоих романах показана жизнь нескольких семейств, связанных между собой узами родства и дружбы. В «Мире среди войны» жизнь течет на фоне событий, известных читателям из истории, но сама война показана в иной перспективе: с точки зрения людей, находящихся внутри нее, людей, чье восприятие обыкновенно не берется в расчет историками и самое парадоксальное в этой перспективе то, что герои, живущие внутри войны, ее не замечают…
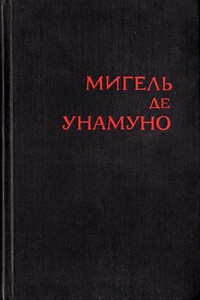
Замысел романа «Любовь и педагогика» сложился к 1900 году, о чем свидетельствует письмо Унамуно к другу юности Хименесу Илундайну: «У меня пять детей, и я жду шестого. Им я обязан, кроме многого другого, еще и тем, что они заставляют меня отложить заботы трансцендентного порядка ради жизненной прозы. Необходимость окунуться в эту прозу навела на мысль перевести трансцендентные проблемы в гротеск, спустив их в повседневную жизнь… Хочу попробовать юмористический жанр. Это будет роман между трагическим и гротескным, все персонажи будут карикатурными».Авито Карраскаль помешан на всемогуществе естественных и социальных наук.
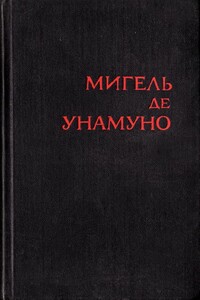
Рассказ написан в 1912 году. Значительно позже та же тема будет развита в новелле «Бедный богатый человек, или Комическое чувство жизни». Унамуно считал «Простодушного дона Рафаэля» одним из самых удачных моих произведений: «так как он был мною написан легко, в один присест», в деревенском кафе, где Унамуно ждал свидания с сестрой, монахиней в провинциальном монастыре.
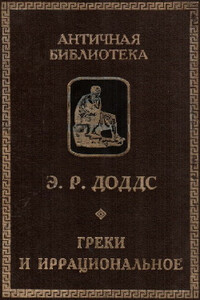
Книга современного английского филолога-классика Эрика Робертсона Доддса "Греки и иррациональное" (1949) стремится развеять миф об исключительной рациональности древних греков; опираясь на примеры из сочинений древнегреческих историков, философов, поэтов, она показывает огромное значение иррациональных моментов в жизни античного человека. Автор исследует отношение греков к феномену сновидений, анализирует различные виды "неистовства", известные древним людям, проводит смелую связь между греческой культурой и северным шаманизмом, и т.

Что это значит — время после? Это время посткатастрофическое, т. е. время, которое останавливает все другие времена; и появляется то, что зовут иногда безвременьем. Время после мы связываем с двумя событиями, которые разбили европейскую историю XX века на фрагменты: это Освенцим и ГУЛАГ. Время после — следствие именно этих грандиозных европейских катастроф.

Замысел этой книги в том что, необходимо рассказать, в доходчивых для нового человека образах и понятиях, о спасительной истине, найденной автором в Евангелии и осуществлении Евангелия в подлинной Церкви святых.
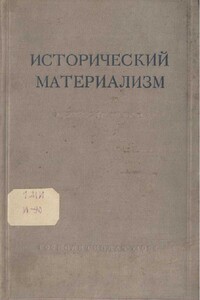
Из предисловия:Необходимость в книге, в которой давалось бы систематическое изложение исторического материализма, давно назрела. Такая книга нужна студентам и преподавателям высших учебных заведении, а также многочисленным кадрам советской интеллигенции, самостоятельно изучающим основы марксистско-ленинской философской науки.Предлагаемая читателю книга, написанная авторским коллективом Института философии Академии наук СССР, представляет собой попытку дать более или менее полное изложение основ исторического материализма.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.