Женщина в янтаре - [106]
Джон рассказывает мне свои истории. Некоторые из них тоже о поездах — в Америке, не в Европе. Когда ему исполнилось семь лет, ему пришлось жить вдали от семьи, в чужом городе среди чужих людей всю неделю; поездом он ездил туда и обратно. Однажды он перевел назад стрелки, чтобы опоздать на поезд. Наши истории не соперничают между собой, они не стремятся друг друга затмить. Они образуют узоры вокруг нас, вторгаются в наши сны, нежно привязывают нас друг к другу. Иногда я вижу нас обоих, светловолосых семилетних детишек, которых разделяет широкий луг, они говорят на разных языках, но дружески один другому улыбаются. Иногда во сне мы близнецы из «Двенадцатой ночи», бледные, в темно-зеленых одеждах, мы вновь встречаемся. Мы устояли в бури, мы в безопасности, мы держимся за руки, мы можем рассказывать друг другу свои истории и свои сны.
Молчаливые, гнетущие образы постепенно облекаются в слова. Прошлое обретает смысл и форму, оно уже не властно надо мной, не леденит, не может заставить молчать, устыдить. Меня поражает сходство моей и маминой жизни, мне хочется уберечь ту девочку, какой она была когда-то, я понимаю, почему она не могла дать мне больше, чем дала. Наши отцы не сумели уберечь нас, мы пережили изгнание и войну. Я представила ее двенадцатилетней девочкой, когда она потеряла любимую Россию, ибо и мне было двенадцать, когда я втайне оплакивала свой отъезд из Германии и хрупкую, кажущуюся надежность лагерей. Мы обе были отверженные, обе были изранены. Мы обе свою печаль передали своим детям.
Моя любовь к матери становится спокойнее, потому что я могу рассказать о ней Ингеборг и Джону, медленно растет понимание и прощение. Джон понимает самое главное во мне. Он рассказывает мне разные истории, прежде чем я засну. Он действительно видит меня, когда на меня смотрит. Он улыбается искренне. Он замкнут, самодостаточен, но ради меня может сделать то, чего я так ждала от матери.
И как-то ночью я рассказываю ему о том, как боролась с матерью на песчаной тропинке, о том, как Хайди и ее мать остались чужими даже в смерти. Вот теперь он знает обо мне все. Он знает, что мама хотела, чтобы я умерла, знает, что я всю жизнь прожила в страхе и чувствовала себя никчемной. Он знает позор моего прошлого.
Я жду, что Джон уйдет, но он не уходит. Вместо этого он нежно укрывает нас обоих голубым пуховым одеялом. Засыпая, я ощущаю его тепло, он здесь, пока я сплю, он будет рядом, когда я проснусь. Его присутствие рядом со мной, в постели, наполняет меня безмятежностью.
В ту ночь я вижу еще один сон о поездах.
Я бегу через открытое поле к поезду, который уже начал двигаться. Я вижу дом, двери которого сорваны с петель, я слышу стук черных солдатских сапог по мостовой, но я спасена. Я мчусь во весь опор, хватаюсь за поручни, подтягиваюсь. Я рада, что наконец в поезде, который увезет меня в безопасное место. Я выжила. Я сажусь на блестящее деревянное сиденье и осматриваюсь.
Я еду в красивом старинном вагоне, блестят латунные медные ручки, сверкают оконные стекла, зеркала в роскошных резных рамах, я еду в безопасное место. Я сижу, радуюсь своему спасению. Но что-то меня тревожит, я забыла что-то сделать. Напротив сидит одетая в черное двенадцатилетняя девочка, тоненькая, на вид иностранка, девочка из прошлой жизни. Я смотрю на нее, и во мне что-то резко звенит, я знаю, что надо делать. Я успела на этот поезд, так как мне надо найти мамин труп.
Я перехожу из купе в купе в поисках мамы. Я обязательно должна ее найти, для меня это важно, но я вижу, что все купе настолько малы, что гроб в них не поместится, а багажный вагон далеко. Я иду по вагонам вперед, возвращаюсь обратно. Вхожу в переполненное купе, одно место свободно. Мама не может быть здесь, для гроба все равно мало места.
У окна сидит слепая монашка, лицом к заходящему солнцу. Она в черном, глаза прячутся за черными очками. Лицо спокойно. Потрясенная, я понимаю, что это моя мать. Руки, кожа, волосы, линия шеи — именно такими сохранила их моя память. Только монашеское одеяние и черные очки смутили меня.
Я сажусь с ней рядом и шепчу:
— Это ты?
— Да, — мама обрадовалась мне.
— Но, мамочка, — говорю я, называя ее так, как обращалась к ней только в Латвии, — но, мамочка, я думала, ты умерла.
— Нет, дорогая моя, — отвечает она. — Я не умерла, я только ослепла. Поэтому я всегда смотрела на других, мимо тебя, когда ты так старалась найти другую мать — мадам Саулите, миссис Чигане, других, но все они тебя бросили. И теперь ты это поняла.
Она снимает очки и протягивает их мне.
— Я так долго была слепой. На войне такое случается.
Мама гладит меня по щеке.
— Прости меня, дорогая моя, — говорит она.
— Ты меня прости, мамочка, — говорю я. — Прости, что я помнила только одно — как ты тащила меня на расстрел. Но сколько раз ты меня спасала! Если бы не твое мужество, я бы умерла. Мы бы умерли все.
Слезы катятся из ее темных глаз, которые совсем не похожи на глаза слепой женщины, они темные и блестящие, точно такие, какими смотрела она на меня в детстве. Мы наконец по-настоящему видим друг друга.
Внезапно я ощущаю прилив удивительной любви и нежности, подобным чувствам по отношению к матери я не давала волю годами. Я глажу мамино лицо, волосы, лоб, руки. Наши слезы смешались. Наши взгляды встретились.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Мария Михайловна Левис (1890–1991), родившаяся в интеллигентной еврейской семье в Петербурге, получившая историческое образование на Бестужевских курсах, — свидетельница и участница многих потрясений и событий XX века: от Первой русской революции 1905 года до репрессий 1930-х годов и блокады Ленинграда. Однако «необычайная эпоха», как назвала ее сама Мария Михайловна, — не только войны и, пожалуй, не столько они, сколько мир, а с ним путешествия, дружбы, встречи с теми, чьи имена сегодня хорошо известны (Г.

Один из величайших ученых XX века Николай Вавилов мечтал покончить с голодом в мире, но в 1943 г. сам умер от голода в саратовской тюрьме. Пионер отечественной генетики, неутомимый и неунывающий охотник за растениями, стал жертвой идеологизации сталинской науки. Не пасовавший ни перед научными трудностями, ни перед сложнейшими экспедициями в самые дикие уголки Земли, Николай Вавилов не смог ничего противопоставить напору циничного демагога- конъюнктурщика Трофима Лысенко. Чистка генетиков отбросила отечественную науку на целое поколение назад и нанесла стране огромный вред. Воссоздавая историю того, как величайшая гуманитарная миссия привела Николая Вавилова к голодной смерти, Питер Прингл опирался на недавно открытые архивные документы, личную и официальную переписку, яркие отчеты об экспедициях, ранее не публиковавшиеся семейные письма и дневники, а также воспоминания очевидцев.

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.
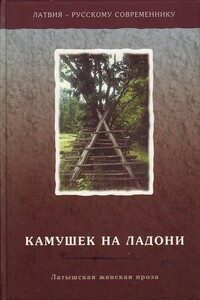
…В течение пятидесяти лет после второй мировой войны мы все воспитывались в духе идеологии единичного акта героизма. В идеологии одного, решающего момента. Поэтому нам так трудно в негероическом героизме будней. Поэтому наша литература в послебаррикадный период, после 1991 года, какое-то время пребывала в растерянности. Да и сейчас — нам стыдно за нас, сегодняшних, перед 1991 годом. Однако именно взгляд женщины на мир, ее способность в повседневном увидеть вечное, ее умение страдать без упрека — вот на чем держится равновесие этого мира.