Женщина в доме - [3]
- Почему ты не ищешь эту женщину в жизни?
Но ведь и самой женщины тоже больше не существует, - подумал я. Нет той женщины, что улыбалась на качелях под дубом, той, что возвращалась из леса, счастливая, как ребенок, с полной корзиной боровиков, напевая, пекла блины на старой дровяной плите, блины всегда подгорали и горчили, но она только смеялась; нет больше той, что отдавалась мне так, как ни одна другая не отдавалась, так, будто каждый раз переживала чудо или откровение и благодарность вместе с какой-то необъяснимой, льющейся через край радостью покоряющей, торжествующей. Нет больше той, что неповторимым движением закрывала лицо раскрытой ладонью, чтобы заглушить крик, когда наступало то мгновение, а после всегда плакала, плакала от волнения и счастья.
Быть может, где-то и живет женщина с ее именем и фамилией, может, с мужем или - без, может, у нее несколько детей, может, у нее по-прежнему каждый раз пригорают блины. Я не знаю, и я не хочу знать.
Сейчас она на пятнадцать лет старше, а у чудес непродолжительный срок годности.
Единственное, что я хотел знать, в каком из домов - она. И все.
Нет, я не надеялся, что, повесив на стену фотографию несуществующего больше дома, с больше не существующей в нем женщиной, я смогу вернуться на пятнадцать лет назад и исправить допущенные тогда ошибки. Если ошибки вообще были. Ведь обычно все неизбежно происходит так, как должно произойти.
Глупости.
Человек я вполне прагматичный. Просто не могу вынести, что не знаю, в каком она доме.
Не знаю.
И не могу вынести.
Это стало для меня жаждой, требующей утоления, моей страстью, с того самого момента, когда, разбирая ящики стола, в которые не заглядывал по меньшей мере лет десять, я нашел фотографии. К тому времени я успел забыть и дом, и женщину. У меня была другая, и я был счастлив. Эта другая и подбила меня разобрать наконец свои бумаги, потому как ей, видите ли, не нравится мой массивный письменный стол шестидесятых годов. Она недавно перебралась ко мне и в одном антикварном магазине присмотрела стол получше. Изящный арт нуво, сказала она. Ну, хорошо, хорошо.
Сперва я вообще не мог вспомнить, что это за дом и как эти фотографии, вложенные в конверт с изображенным на нем космонавтом, кажется, Гагариным, попали ко мне. У ног стоял черный пластиковый мешок, в который я выбрасывал все ненужное, и я протянул было руку, чтобы выбросить и эти фотографии, как вдруг - это случилось. Воспоминания накрыли меня волной, могучей и ошеломляющей. Сначала дом - я увидел все разом, все, что в нем было: проходную комнату посередине, вереск в вазе, оплывшие свечи на подоконниках, стеклянные дверцы серванта, пахнущего валерьянкой, спальню с узкой деревянной кроватью, в которой проходили наши ночи, и ее. Ее! Руки дрожали да как же я мог забыть?! Воспоминания источали запахи: они пахли лесом, только что вымытым дощатым полом, дымом от плиты, мокрой собачьей шерстью, деревенским одеялом грубой вязки, ее губами и слюной, ее промежностью, моим семенем, которое, смешиваясь с ее соками, пахло сладко, как никогда потом уже не пахло...
- Что с тобой? - спросила Илзе, моя теперешняя, та, с которой я был
счастлив. - А что это за фотки? - поинтересовалась она. - Что за дом?
- Когда-то в юности, давно... мы с сестрой там часто гостили, постарался я произнести непринужденно.
- И что?
- Да нет, ничего.
- Ну, так выбрасывай, - сказала Илзе.
- Да ну, оставлю, - ответил я как можно небрежнее.
- У тебя там что, пассия была? - спросила Илзе.
Я ужасно обиделся на это ее "пассия", ужасно, да, может, это смешно, но мне это показалось настолько же грязным, как если бы она сказала "сука".
- Сама ты пассия, - огрызнулся я.
И больше ничего. Мы молча продолжали наводить порядок, потом ужинали, говорили о работе, предстоящих выходных и курсах испанского, на которые ходила Илзе, потом пошли спать, вроде бы даже занимались любовью, я закрыл глаза и старался не смотреть на лежащую подо мной женщину, она что-то шептала мне на ухо, но я лишь повторял про себя в ритме монотонных движений: мне пофиг, мне пофиг, мне пофиг, мне по-фи-гу.
Ночь погасила вечер и сменилась обычным утром, и мы, ни она, ни я, не почувствовали, что это слово, одно лишь слово - "пассия" - положило начало концу наших с ней отношений.
Или все-таки - фотографии?
С того дня я все время носил снимки с собой в портмоне, а на работе, в обеденный перерыв, часто выкладывал их перед собой на стол и просто смотрел.
Я сосканировал их и держал на экране компьютера за окном Excel'а.
А однажды, да, правда, было и такое, я взял один из снимков (в тот момент я был почти уверен - тот самый), закрылся в туалете и стал дрочить, глядя на эту фотографию, и мне показалось, что на одно мгновенье я вновь почувствовал тот прежний запах нашей любви и стал так невыносимо счастлив... и тут же, как только прекратились сладостные конвульсии, так невыносимо несчастен, что расплакался - я, мужчина, расплакался перед зеркалом в туалете, глядя на свое лицо, покрытое красными пятнами, мокрое, постаревшее, а потом мне, конечно, было стыдно, ужасно стыдно за все.
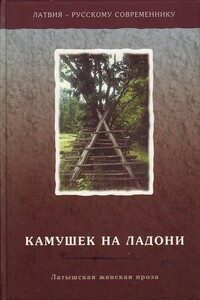
…В течение пятидесяти лет после второй мировой войны мы все воспитывались в духе идеологии единичного акта героизма. В идеологии одного, решающего момента. Поэтому нам так трудно в негероическом героизме будней. Поэтому наша литература в послебаррикадный период, после 1991 года, какое-то время пребывала в растерянности. Да и сейчас — нам стыдно за нас, сегодняшних, перед 1991 годом. Однако именно взгляд женщины на мир, ее способность в повседневном увидеть вечное, ее умение страдать без упрека — вот на чем держится равновесие этого мира.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.

Однажды окружающий мир начинает рушиться. Незнакомые места и странные персонажи вытесняют привычную реальность. Страх поглощает и очень хочется вернуться к привычной жизни. Но есть ли куда возвращаться?

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.
