Железная кость - [37]
— Этот, это, он самый, амбал. — Тяжелее все и тяжелее на Валерку глазами надавливают. — Что, паскуда, не ждал?! Не признаешь никак?! Как Кирюхе скворечник раскокал вчера?! Только так ломал наших, злее всех за Чугуева, гнида!
— Пересеклись пути-дорожки, прихвостень чугуевский! Все, бугай, мы сейчас тебя будем месить!
Ну конечно, месить — прямо счас… ему что — ничего под буравящим натиском этим: отродясь не дрожал, в животе не прихватывало перед кем бы то ни было, будь хоть трое, хоть пятеро, но ведь он обещал же, Валерка, заложился не лезть ни в какую зарубу — перед батей, перед Натахой поклялся… вот ведь жизнь: и не хочешь, а дерись, отвечай, никуда от войны ему этой не деться, и взмолился аж даже, на себя не похожий:
— Это самое, ребят… мож, не надо. Ну вот было и было, забыли, проехали. Еще больше ведь дров вот сейчас наломаем!
— Как ломал нас, забыл?! — И ногой его в ляжку, за ворот, наскочили втроем, навалились, на капот опрокинули скопом, безрукого, — не пускает он руки в простые движения, еле-еле себя пересиливая и смиряя вот в этих тисках: не вломить, не рвануться всей мочью в ответную!
— Э, вы что там такое? — обернулся отец. — Э, пусти его, вы!.. вы чего, мужики?!
— Уйди, отец, пока не схлопотал! — Самый рьяный из всех отмахнулся — летит уже наземь, отцовской рукой за шкирмо, как кутенок, сграбастанный.
И споткнулись все, обмерли в непонимании, почему это он, их дружок, не встает, не встает прямо сразу… и уже на отцовский кулак все таращатся, взглядом пристыв, — руку каменотеса, вальцовщика, огородника, молотобойца, на штырек металлический, что зажат в кулаке этом черном и гнется под нажимом большого заскорузлого пальца в скобу.
— Да ты чего, мужик?! Да наше это дело!
— А вот того! Рядком не ляжете, но одного уж точно положу! — с клыкастым оскалом, звериным упором, отец их глазами, отпрянувших, рвет. — Что ж мне в сторонке, когда на сына впятером?! Когда вот так рабочие рабочего? Свои своего! Совсем с нарезки сбились, сопляки?! Так я сейчас резьбу вам прогоню! Он, может, и дурак пробитый, но он мой! Ну так чего, забыли, разбежались? Или друг дружке котелки расколошматим? Так чтоб на пару меньше рабочих человек на свете стало и на пару вот клоунов больше? Прибьете идиота, а мучиться-то будете как из-за человека!
И расступаются, глаза у всех куда-то подевались: нет сил поднять и прямо поглядеть ни на отца, ни друг на дружку даже… И на пути уже обратном, с пустым прицепом тряским на хвосте, Валерка не выдерживает, фыркает:
— Слышь, бать, а я уж и не вспомню, когда ты за меня в последний раз вот так впрягался — было ли такое.
— Поржать бы лишь, негодник. Лежал бы сейчас сломанный, и я с тобою рядом — вот смешно!
— Да мы б их, бать, с тобой там в штабель уложили! Слышь, бать, признать хочу: напрасно я тебя списал в утиль так рано. Смотрю — а ты еще любого на ручонках пережмешь. Теперь таких не делают! Вот мне б таким, как ты, в твои-то годы.
— Ты доживи до них, дурилка, до моих! С умом своим, скворечником дырявым… Ведь чуть же не убил, — сознался, как из-под земли.
— Кого, бать, кого?
— Кого сейчас вот от тебя оттаскивал и бросил, этого сейчас! Замкнуло все в башке, собою больше не командую. Уж если я такой, это какой тогда быть должен ты? Это ж вообще тогда не управляемый.
— Так ведь за кровь родную, батя, если так-то! Наверно, правильно, считаю, правомочно.
— Не лезь, Валерка, больше никуда! — с каким-то хнычущим бессилием попросил, и затрясло его, и с мукой выпускал — из-под плиты Валеркиной природы: — Как хочешь, понял?! Хоть руки «Моментом» по швам, но не лезь!
— Так я чего… я даже пальцем вон сейчас. Ну ты же видел: вытерпел, не стукнул. Значит, могу, могу себя держать. Давай за это, бать… — И на стекляшку придорожную кивает — вон она выплыла манком для всех закончивших тяжелую работу и надорвавшихся в бесплодии тягловых усилий, стоит вот тут с начала перестройки и ржавчины на всем могутовском железном, одна дорога в город, одна — не миновать.
Отец только по праздникам большим рюмашку пропускает — не знает этой радости угарной скоротечной, такой вот организм, не принимает, но червячка сейчас согласен заморить, от драки этой вот, задушенной в зачатке, отойти. Зашли, знакомым покивали. Графинчик у Томки со стойки забрали, тарелки с горящим борщом — мясцо вон на желтых костях, кольца жира.
— Ну, бать, давай, — костяшками сведенными ткнул в отцовы фаланги, опрокинули оба по капле, над тарелками молча склонились, заработали ложками, жвалами.
Исподлобья глазами стекляшку обводит — кирпично-обожженные знакомые все лица, угрюмо-терпеливые, жующие, распаленные. Жует — и поперхнулся, ложку даже выронил, расшибшись ровным взглядом о лицо сидящего в углу — лоб и скулы того, с кем когда-то на соседних горшках заседал и захлебывался смехом на всесильных руках изначальной молодой общей мамы; то лицо, первых дней, мягко-круглое личико, брызнуть готовое без утешной обидой, ревом, водой, проступило сквозь это намученное ежедневной бессонницей, страхами, затвердевшее в штурмах, осадах, акционерных подкопах кротовьих… Сашка, брат, там в углу! Невозможно живой, настоящий, непонятно, вообще какой силой занесенный сюда, в их босяцкий шалман придорожный, — с длинным кем-то, не видным в лицо, сепаратно о чем-то шушукается и не видит Валерку, не чует наведенного братского взгляда совсем, так его сейчас длинный собеседник магнитит, обращенный к Валерке пиджачной спиной.

Гражданская война. Двадцатый год. Лавины всадников и лошадей в заснеженных донских степях — и юный чекист-одиночка, «романтик революции», который гонится за перекати-полем человеческих судеб, где невозможно отличить красных от белых, героев от чудовищ, жертв от палачей и даже будто бы живых от мертвых. Новый роман Сергея Самсонова — реанимированный «истерн», написанный на пределе исторической достоверности, масштабный эпос о корнях насилия и зла в русском характере и человеческой природе, о разрушительности власти и спасении в любви, об утопической мечте и крови, которой за нее приходится платить.
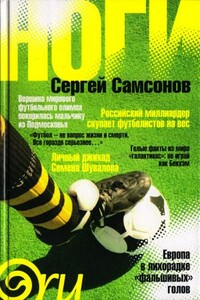
Сверходаренный центрфорвард из России Семен Шувалов живет в чудесном мире иррациональной, божественной игры: ее гармония, причудливая логика целиком захватили его. В изнуряющей гонке за исполнительским совершенством он обнаруживает, что стал жертвой грандиозного заговора, цель которого — сделать самых дорогостоящих игроков планеты абсолютно непобедимыми.

Великая Отечественная. Красные соколы и матерые асы люфтваффе каждодневно решают, кто будет господствовать в воздухе – и ходить по земле. Счет взаимных потерь идет на тысячи подбитых самолетов и убитых пилотов. Но у Григория Зворыгина и Германа Борха – свой счет. Свое противоборство. Своя цена господства, жизни и свободы. И одна на двоих «красота боевого полета».

Новый роман Сергея Самсонова «Проводник электричества» — это настоящая большая литература, уникальная по охвату исторического материала и психологической глубине книга, в которой автор великолепным языком описал период русской истории более чем в полвека. Со времен Второй мировой войны по сегодняшний день. Герои романа — опер Анатолий Нагульнов по прозвищу Железяка, наводящий ужас не только на бандитов Москвы, но и на своих коллег; гениальный композитор Эдисон Камлаев, пишущий музыку для Голливуда; юный врач, племянник Камлаева — Иван, вернувшийся из-за границы на родину в Россию, как князь Мышкин, и столкнувшийся с этой огромной и безжалостной страной во всем беспредельном размахе ее гражданской дикости.Эти трое, поначалу даже незнакомые друг с другом, встретятся и пройдут путь от ненависти до дружбы.А контрапунктом роману служит судьба предка Камлаевых — выдающегося хирурга Варлама Камлаева, во время Второй мировой спасшего жизни сотням людей.Несколько лет назад роман Сергея Самсонова «Аномалия Камлаева» входил в шорт-лист премии «Национальный бестселлер» и вызвал в прессе лавину публикаций о возрождении настоящего русского романа.

Новый роман Сергея Самсонова — автора нашумевшей «Аномалии Камлаева» — это настоящая классика. Великолепный стиль и чувство ритма, причудливо закрученный сюжет с неожиданной развязкой и опыт, будто автору посчастливилось прожить сразу несколько жизней. …Кошмарный взрыв в московском коммерческом центре уносит жизни сотен людей. Пропадает без вести жена известного пластического хирурга. Оказывается, что у нее была своя тайная и очень сложная судьба, несколько человек, даже не слышавших никогда друг о друге, отныне крепко связаны.
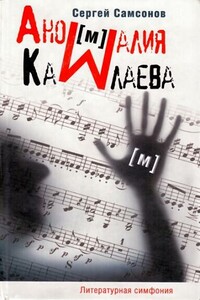
Известный андерграундный композитор Матвей Камлаев слышит божественный диссонанс в падении башен-близнецов 11 сентября. Он живет в мире музыки, дышит ею, думает и чувствует через нее. Он ломает привычные музыкальные конструкции, создавая новую гармонию. Он — признанный гений.Но не во всем. Обвинения в тунеядстве, отлучение от творчества, усталость от любви испытывают его талант на прочность.Читая роман, как будто слышишь музыку.Произведения такого масштаба Россия не знала давно. Синтез исторической эпопеи и лирической поэмы, умноженный на удивительную музыкальную композицию романа, дает эффект грандиозной оперы.

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.