Жареный петух - [19]
***
Вообще-то, как уже недвусмысленно сообщалось, я покусился на летописный очерк о Краснове, своем друге, а в связи с ним и о Каргопольлаге, о благословенном ОЛПе-2 — Афинах мира, где к началу пятидесятых годов сгрудилось больше выдающихся умов, чем в солнечной Греции в век Перикла, и если я так долго не переключаюсь со своей особы, то только потому, что о себе писать проще. Можно ведь и не справиться с поставленной задачей. Можно всю жизнь смотреть в потолок, созерцать его, но так и не понять, каким образом Краснов в столь неблагоприятных условиях, как лагерь, смог оседлать и взнуздать великую идею, дать ей неожиданное, дальновидное, пророческое истолкование. Отметим, что изложение и описание внешних условий быта не сулят понимания идеи. Хотелось бы эти слова подчеркнуть жирно. Отнюдь не значит, что мой друг был всего-навсего далек от действительности, предрасположен к абстрактным, метафизическим построениям, в чем-то был подслеповат. Не буду отрицать, что отчасти это так. А быть может, для того, чтобы видеть, как орел, дальнее, идею-образ, и надо быть дальнозорким. В земных, суетных делах был подслеповат великий астроном Тихо де Браге — о чем полно анекдотов. Бесспорно, имеется разлад и раскол между повседневными несносными реалиями лагеря, опытом, который волей-неволей должен был стяжаться по мере того, как мой башковитый друг адаптировался к экстраординарным условиям и глубинным, метафизическим осмыслением, оформлением этой эмпиреи в головную теорию, которая запросто могла разворотить мозги любому, которая до сих пор вызывает мое подлинное восхищение. А знаешь ли, читатель (может быть, этого ты и не знаешь), что все великие философские концепции создавались как результат внутреннего озарения, а не под влиянием повседневного опыта и жалкого житейского быта. Я был крайне смущен, когда взял в руки историю философии (поневоле: греки стали моей специальностью, пришлось продираться и сквозь их интеллектуальные построения), прочитал о Фалесе, которого древние причислили к семи великим мудрецам: мудрость Фалеса сводилась к тому, что он учил, что все состоит из воды. Ну это же явно не так! Какая-то глупость! Может быть, надо мною шутят. Может быть, это надо понимать как-то аллегорически, ну не прямо из воды, а... словом, как-то иначе. Одна моя знакомая, открыв Гегеля, сказала: или я дура, или Гегель. Все, значит, состоит из воды. Нет, нам, русским этого не понять! Почему именно из воды? У Гомера куда ни шло: "Река Океан, от коего все родилось". Еще больше испугал меня Парменид, который уверенно отрицал реальность изменения, развития, движения. Движения нет. Нелепость. Как это можно серьезно говорить? В чем мудрость? Оказывается, если бы вы сказали Пармениду, что видите движущиеся предметы, что факт наличия движения вам гарантируют ваши органы чувств, он бы вам возразил: "Нет, с помощью аргументов разума обсуди ты предложенный мною спорный вопрос". Значит, и Фалес, и Парменид, отлично понимали, что их философия находится в явном, кричащем, нахальном, веприличном противоречии с повседневным опытом простых людей, человека с улицы, неизощренного в любомудрии. Великая философия греков дерзко, смело противопоставлена образному, предметному, чувственному восприятию мира: она представляет собою результат интеллектуального осмысления бытия, плод могучих абстракций. Это философия впервые в истории человечества декларировала абсолютную автономность мысли. Она больше ценила внутреннюю логическую непротиворечивость, последовательность, чем совпадение с той картиной действительности, которую лепят нам пошлые чувства. Увлекаясь греками, я не раз и не два вспоминал о Краснове, вспоминал дерзкие, высокомерные, интеллигибельные, выигрышные концепции моего славного, несравненного друга.
Эй, ямщик, не гони лошадей! Избежим крутых виражей фабулы, не будем перемахивать барьеры, форсировать изложение, забегать вперед, пренебрегать мерой, воспетой великими эллинами, а равно и последовательным чином внешних ситуаций и обстоятельств, которые тесною толпою обступили новоиспеченного лагерника, юного, дерзкого бесстрашного философа.
Вы, благосклонный читатель, поди, не раз слыхивали, что лагерная хмарь и фантасмагория начинается чистилищем: карантином. Это так. В карантине я впервые увидел новые денежные знаки.
Нас с Красновым на работу почему-то не гоняли, позабыли, что ли. Погодка выдалась пригожей во всех отношениях: безветренно, теплынь. Млеем на нетомящем архангельском солнышке у барака, баклушничаем, предаемся последнему пузогрейству и спиногрейству. Краснов разоблачился до пояса, нацелил малокровно-мертвенную спину лучам любезного августовского, неведомого солнца. Я зажмурился, пребываю в полузабытьи и бездумье, наскреб с трудом энергии, чтобы положить хер с прибором на звезду пленительного счастья и не дурманить мои зэчьи мозги привязчивой, не знающей границы, прожорливой мечтой-грезой о несбыточной, уплывшей из жизни воле, о нормальной, простой человеческой жизни, а эта хитрая, непокорная греза того и гляди подкрадется, прорвется, тяпнет и утащит фантазию прочь от грубой, твердой почвы, унесет, как унес орел Ганимеда, в сияющую обитель света, туда, где "нет опоры живому телу". Ни о чем не думать, не думать, главное, о завтрашнем дне, который, как говорится в древней книге, "сам о себе позаботится". Жизнь полетела под откос, пошла сикось-накось. Впереди корячится лагерь. Его же царствию не будет конца. У меня очень даже получалось: укрощал фантазию и пустые мечтания. Царство Божие внутри нас. Забывался. Чувствовал себя отлично. Без ложной скромности скажу, что моя психика уравновешена. Не ведаю, что такое тоска, не склонен к меланхолической созерцательности, умею легко, спокойно засыпать, не думать о девочках на сон грядущий, как некоторые. При невзгодах я, как эластичный мыслящий тростник, сгибаюсь, но не унываю: пройдут громы и молнии, я опять, в отличие от дубов, выпрямлюсь. Паскаль, Тютчев уподобляет человека тростнику. Значит, милый читатель, мы в карантине. Представь. Новенький забор, запах свежего теса: забор отделяет мужскую зону от женской. Почему-то в одном месте забора доски всегда оторваны: дыра. Каждую неделю дыру зашивают, но она вновь и вновь, как по щучьему велению, образуется на прежнем месте. Доски не держатся здесь: сами собой отлетают. В амбразуру удобно нырнуть глазом, усмотреть, что там, за забором, делается, и, если бы ты, читатель, туда нацелил изголодавшийся, тоскливый глаз, то увидел бы, как там в некотором отдалении с ленивой грацией крупных хищниц шастают зэчки, бабьё — "наши женщины". Они постарше нас с Красновым, им под тридцать, а в общем кто их разберет, тучногрудые, донельзя широкобедрые, сдобные, перезрелые халды, лахудры, кикиморы; как в песне: "Моя милка сто пудов, не боится верблюдов!". Так видит этих женщин Краснов. Я бы рискнул назвать их цветущими женщинами. Тициановский, зрелый тип женщины для Краснова не существует. В глубине души он не верит, что таких женщин вообще кто-нибудь может любить настоящей любовью. Там, за забором, для Краснова зряшный, несуществующий мир. Не интересно. К тому же эти фефелистые тетки блудливы, неразборчивы, как кошки: каждую ночь меняют "мужей". Об одной — "красючка, век свободки не видать"— наш брат зэк судил с нескрываемым восхищением, переходящим прямо в испуг: ненасытна, десяток за ночь пропускала. У нас междусобойчики и дрязги. Кому первым на Зойку сигать, а кому вторым. Кто последний? Очередь, записывались. Не для Краснова, не для меня.

Евгений Федоров— родился в 1929 году в Иваново. В 1949 году, студентом 1-го курса филологического факультета МГУ (искусствоведческое отделение), был арестован по обвинению в групповой антисоветской деятельности и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ в лагерях общего типа. В 1954 году реабилитирован. Окончил МГУ в 1959 году. Автор книг “Жареный петух”, куда, кроме одноименной повести, вошли еще две: “Былое и думы” и “Тайны семейного альбома”, а также цикла повестей “Бунт”. Печатался в журналах “Нева”, “Новый мир”, “Континент”.

Публикуя в № 95 повесть Евгения Федорова “Кухня”, мы уже писали об одной из характерных особенностей его прозы — о том, что герои его кочуют из одной повести в другую. Так и в повести “Проклятие”, предлагаемой ниже вниманию читателя, он, в частности, опять встретится с героями “Кухни” — вернее, с некоторым обобщенным, суммарным портретом этой своеобразной и сплоченной компании недавних зеков, принимающих участие в драматическом сюжете “Проклятия”. Повесть, таким образом, тоже примыкает в какой-то мере к центральному прозаическому циклу “Бунт” (полный состав цикла и последовательность входящих в него повестей указаны в № 89 “Континента”)

Действие разворачивается в антикварной лавке. Именно здесь главный герой – молодой парень, философ-неудачник – случайно знакомится со старым антикваром и непредумышленно убивает его. В антикварной лавке убийца находит грим великого мхатовского актера Гайдебурова – седую бороду и усы – и полностью преображается, превращаясь в старика-антиквара. Теперь у него есть все – и богатство, и удача, и уважение. У него есть все, кроме молодости, утраченной по собственной воле. Но начинается следствие, которое завершается совершенно неожиданным образом…
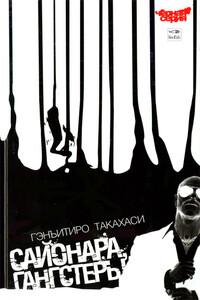
Чтобы понять, о чем книга, ее нужно прочитать. Бесконечно изобретательный, беспощадно эрудированный, но никогда не забывающий о своем читателе автор проводит его, сбитого с толку, по страницам романа, интригуя и восхищая, но не заставляя страдать из-за нехватки эрудиции.

Наши дни. Семьдесят километров от Москвы, Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, Московская духовная семинария – древнейшее учебное заведение России. Закрытый вуз, готовящий будущих священников Церкви. Замкнутый мир богословия, жесткой дисциплины и послушаний.Семинарская молодежь, стремящаяся вытащить православие из его музейного прошлого, пытается преодолеть в себе навязываемый администрацией типаж смиренного пастыря и бросает вызов проректору по воспитательной работе игумену Траяну Введенскому.Гений своего дела и живая легенда, отец Траян принимается за любимую работу по отчислению недовольных.

Роман «Нечаев вернулся», опубликованный в 1987 году, после громкого теракта организации «Прямое действие», стал во Франции событием, что и выразил в газете «Фигаро» критик Андре Бренкур: «Мы переживаем это „действие“ вместе с героями самой черной из серий, воображая, будто волей автора перенеслись в какой-то фантастический мир, пока вдруг не становится ясно, что это мир, в котором мы живем».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Горькая и смешная история, которую рассказывает Марина Левицкая, — не просто семейная сага украинских иммигрантов в Англии. Это история Украины и всей Европы, переживших кошмары XX века, история человека и человечества. И конечно же — краткая история тракторов. По-украински. Книга, о которой не только говорят, но и спорят. «Через два года после смерти моей мамы отец влюбился в шикарную украинскую блондинку-разведенку. Ему было восемьдесят четыре, ей — тридцать шесть. Она взорвала нашу жизнь, словно пушистая розовая граната, взболтав мутную воду, вытолкнув на поверхность осевшие на дно воспоминания и наподдав под зад нашим семейным призракам.