Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера - [3]
Когда столь ответственный и вдумчивый мастер ставит, к примеру, «Хануму» Авксентия Цагарели, беспечный, старинный, столетней давности, водевиль, его, понятно, не может прельстить резвая игра обманов и недоразумений, десятилетиями забавлявшая грузинскую публику. Над комедийным спектаклем витает записанный на пленку взволнованный и торжественный гортанный голос самого режиссера — с нескрываемым упоением Товстоногов произносит долетевшие из прошлого века любовные строфы Григола Орбелиани:
Только я глаза закрою — предо мною ты встаешь,
Только я глаза открою — над ресницами плывешь…
А на планшете сцены безмолвная пантомима, прерывая и останавливая вихрь водевильных происшествий, элегичным языком пластики говорит о том же: славит величие любви.
Всепоглощающая страсть, совершенно неведомая легкомысленной пьесе, где любовью либо торгуют, либо шутят, но только не живут, вторгается в спектакль извне, его на себя равняя, сообщая всем перипетиям новое значение, скрепляя собою затейливую вязь мизансцен. Пылкими рефренами Орбелиани поэзия с небес этого спектакля падает на улочки старого Авлабара (своего рода тифлисского Замоскворечья), и тайное ее очарование, ее ностальгический дух улавливают артисты: и Л. Макарова, пленительная и предприимчивая сваха, воркующая ведьма — Ханума, и грациозно дряхлый князь — В. Стржельчик, и вдохновенно практичный приказчик — Н. Трофимов, и восторженный недотепа Коте — Г. Богачев…
Легкокрылая «Ханума» с готовностью предлагала повод для увлекательных вариаций в духе вахтанговской праздничной театральности, но, как видим, такая перспектива Товстоногова не прельстила. Широко распространенное восприятие театра как праздника вообще не в его вкусе, забавлять зрителей он не намерен. Тут — в серьезности, с которой Товстоногов задумывает и ведет спектакль, — содержится простое объяснение явственного нежелания сворачивать на модную стезю шумного и бравурного мюзикла, к которой тоже вполне могла бы его склонить «Ханума». В том-то и дело, что обе эти возможности, которые близко лежали, Товстоногов отверг — и не только потому, что они легко предугадывались, но главным образом потому, что они уводили прочь от единственно для него важной сути. Он поступил иначе, старая комедия наполнилась в его истолковании искренним чувством, расположилась на полпути между наивной красочностью живописи Пиросмани и патетикой поэзии Орбелиани. Игрушка вдруг ожила.
Замечу кстати, что, столь важными для «Ханумы», простыми и сильными средствами звукозаписи Товстоногов пользуется очень охотно. Гомон и щебет птиц в «Дачниках», горестные частушки военных лет в «Трех мешках сорной пшеницы», конский топот, ржанье и мощный гул мчащегося табуна в «Истории лошади», раздольные старинные казачьи песни над «Тихим Доном», живой голос автора, Василия Шукшина, читающего ремарки к «Энергичным людям», — все это для Товстоногова повод и способ раздвинуть пределы сцены, связать ее подмостки с беспредельностью жизни.
К решению проблем, выдвигаемых действительностью и драмой, режиссер приближается настойчиво, медленно, кругами, подступает к ним снова и снова. Его искусство полно предчувствий и предвестий, и в паузах спектаклей постепенно накапливается электричество неизбежной грозы. Товстоногов — организатор бурь. Он сам должен исподволь создать напряжение, которое рано или поздно разрядится раскатами грома, ударами молний, и в их ослепительном свете нам откроется правда.
Монотонно, несколько раз в спектакле «Три мешка сорной пшеницы» по В. Тендрякову повторяется одна и та же, в сущности, коллизия: бездушному формализму и мертвой чиновнической тыловой хватке Божеумова (которого В. Медведев играет умышленно мягко, намеренно тускло, с угрожающе-тихой достоверностью) упрямо возражает горячечная, смелая человечность вчерашних фронтовиков Кистерева (О. Борисов) и Тулупова (Ю. Демич). Вновь и вновь сталкиваются, но никак не могут ни столковаться, ни понять друг друга форма и суть, душа и догма, правило и совесть. Веские, мрачные аргументы даны и той и другой стороне. Атмосфера накаляется до тех пор, пока режиссер не подает Олегу Борисову тайный, невидимый нам знак: пора!
В этот миг сразу меняется весь театр. Будто и не было ни тяжелых дождевых туч, нависших над сценой, ни частушек, только что звучавших над нею, ни крестьянских массовок, горестно и обреченно группировавшихся на планшете. Все куда-то исчезло, пропало. Есть одна лишь реальность: ярость актера, клокочущий темперамент, голос, который срывается на хрип, осатаневшие глаза — вся человеческая жизнь вот сейчас, сию минуту будет истрачена и сожжена разом, выгорит дотла, без остатка.
Весь многосложный механизм спектакля сконструирован ради одного момента, ибо это — момент истины.
Повесть В. Тендрякова, написанная с протокольной суховатостью, в сценическом изложении Товстоногова зазвучала трагически.
Думается, такой сдвиг — отчасти по крайней мере — предопределило предпринятое режиссером «раздвоение» образа Тулупова — персонажа, от имени которого ведется рассказ. Это «раздвоение» понадобилось Товстоногову отнюдь не для пущей театральности или «драматизации» прозы, не во имя переключения повествования в игровой план. Как раз в этом-то смысле фигура Тулупова-старшего (сегодняшнего), помещенная режиссером рядом с Тулуповым-младшим (военных лет) никакой выгоды не дает. Драме ни комментаторы, ни наблюдатели не требуются, лишние персонажи, активно в событиях не участвующие, ей только мешают.

Книга двоюродной сестры Владимира Высоцкого, Ирэны Алексеевны Высоцкой посвящена становлению поэта и артиста, кумира нескольких поколений, истории его семьи, друзьям и недругам, любви и предательству, удачам и разочарованиям. В книгу вошли около 200 уникальных фотографий и документов, почти все они публикуются впервые. В ней множество неизвестных эпизодов из детства Высоцкого, позволяющие понять истоки формирования его личности, характера и творчества. Книга будет интересна как давним поклонникам Высоцкого, так и всем интересующимся творчеством поэта, барда и актера.

Издание «Режиссеры настоящего» представляет портреты (интервью и обзоры творчества) самых актуальных режиссеров современности, по версии известного киноведа Андрея Плахова. В первый том вошли рассказы о двенадцати ярчайших постановщиках мирового кино.

Наши прославленные мастера сцены и экрана давно признаны во всем мире, а вклад их в мировую сокровищницу культуры настолько значителен, что без русских имен европейский театр двухвекового периода, а вместе с ним кинематограф XX века представить невозможно. Достаточно вспомнить Павла Мочалова, Михаила Щепкина, Марию Ермолову, Веру Комиссаржевскую, Василия Качалова, Алису Коонен, Михаила Чехова, Бориса Щукина, Аллу Тарасову, Фаину Раневскую, Николая Хмелева, Николая Черкасова, Бориса Бабочкина, Николая Симонова, Алексея Грибова, Ростислава Плятта, Иннокентия Смоктуновского и еще десятки блистательных имен, каждое из которых могло бы составить отдельную страницу в истории мирового актерского искусства…Очередная книга серии знакомит читателей со ста самыми знаменитыми российскими актерами.
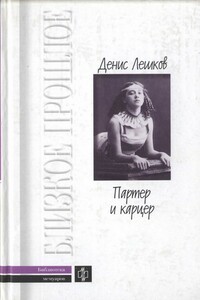
Записки Д. И. Лешкова (1883–1933) ярко рисуют повседневную жизнь бесшабашного, склонного к разгулу и романтическим приключениям окололитературного обывателя, балетомана, сбросившего мундир офицера ради мира искусства, смазливых хористок, талантливых танцовщиц и выдающихся балерин. На страницах воспоминаний читатель найдет редкие, канувшие в Лету жемчужины из жизни русского балета в обрамлении живо подмеченных картин быта начала XX века: «пьянство с музыкой» в Кронштадте, борьбу партий в Мариинском театре («кшесинисты» и «павловцы»), офицерские кутежи, театральное барышничество, курортные развлечения, закулисные дрязги, зарубежные гастроли, послереволюционную агонию искусства.Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями, отражающими эпоху расцвета русского балета.

«Нас, русских, довольно часто и в некоторых отношениях правильно сравнивают с итальянцами. Один умный немец, историк культуры прошлого столетия, говорит об Италии начала XIX века: „Небольшое число вполне развитых писателей чувствовало унижение своей нации и не могло ничем противодействовать ему, потому что массы стояли слишком низко в нравственном отношении, чтобы поддерживать их“…».
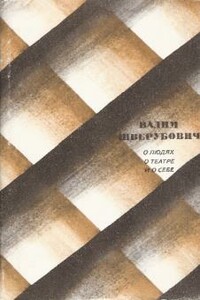
В. В. Шверубович — сын выдающегося советского артиста В. И. Качалова — описывает в книге свою юность, встречи с замечательными артистами начала века и нашего времени. Автор — активный деятель советского театра, преподаватель Школы-студии МХАТ.Книга рассчитана на широкий круг читателей.