Зеркало ислама - [5]
одновременно Божественного и земного, и метафизика Света, который может трактоваться как Богоявленность в тварном мире, и концепция единства бытия, которая, как следует даже из самого ее названия, предполагает некое единство Божественного и тварного. Происходит своего рода зеркальная игра мысли: от тварных предметов к вещам трансцендентным – к тварному миру. И обратно…
Среди ословесенных вещей человеческого мира или, как посмотреть, овеществленных слов – Зеркало. Само Зеркало — опредмеченное выражение расщепления единого. Зеркало удваивает мир – подобно тому, как удваивает его слово, употребленное в, назовем это так, коранической языковой среде, т. е. в той стихии арабского языка, которая структурируется Кораном.
Но Зеркало еще и предмет исключительно необычный – не ровня другим предметам. И редкий. Представим себе мир средневекового мусульманина. Он, этот мир, шершавый и по преимуществу тусклый [Допустимо высказать соображение о том, что технологический уровень развития цивилизации определяется количеством искусственных зеркальных поверхностей на душу населения.]. Глинобитные или каменные постройки; окна, естественно, не застеклены; песок и пыль набиваются в шерсть верблюду; грубые одежды бурого цвета; войлочные стволы пальм… И среди этой тусклой шершавости отполированные человеком или Богом островки иного мира – крайне немногочисленные Зеркала. Да еще почти такие же редкие озерца, в которых можно увидеть небо. Или колодцы, в прохладную глубину которых заброшено Зеркало. Уже только поэтому Зеркало не могло не привлекать не только, скажем, физиков или магов (а они воздали ему должное!), но и спекулятивных мыслителей, тщившихся понять, каким может быть абсолютное Божественное Зеркало.
При этом, как я полагаю, использование Зеркала в спекулятивной мысли допустимо еще рассматривать как своего рода компенсацию, призванную ввести в культурный (в том числе – интеллектуальный, спекулятивный) оборот зрительные образы, которые обладают большим экспликативным потенциалом.
А образность была в исламе под запретом. Есть абсолютно достоверный хадис Пророка, запрещающий изображать живые существа. «Кто изобразил образ {саввара сурат>ан}, тот должен вдохнуть в него дух, а ведь он [наверняка] не вдыхающий»>6. Это значит, что человек, изобразивший некий образ (из других хадисов ясно, что обязательно подразумевается наличие у образа головы), обязан оживить его, вдохнув в него животворящий дух, но сделать это он не в состоянии, ибо это может совершить только Бог. А само изображение образов [В арабском тексте также присутствует тавтология: саввара сурат>ап.] есть подражание Богу (одно из Его имен – Наделяющий образом {аль-Мусаввир}) – грех, который, как ясно из другого хадиса, будет наказываться в Судный день наисильнейшим мучением тех, кто этот грех совершил. Есть и такой хадис Пророка: «Ангелы не входят в дом, в коем есть образ {сура}»>7. Тем самым для мусульман в принципе исключалось аллегорическое изображение, например, Тщеславия в образе женщины, сосредоточенной на том, что она рассматривает себя в Зеркале (таких изображений существовало много в средневековой христианской Европе) [Запрет изображать живые существа в исламской культуре нарушался. В этом случае, например, в Иране происходило возрождение доисламских художественных принципов, тесно связанных с доисламскими же верованиями иранцев. В результате возникал синтез разных, в некотором смысле противоположных, норм и образцов, в котором реализовался своего рода реванш первоначально угнетенных автохтонных, неисламских традиций. (См., напр.: Бертелъс А.Е. Художественный образ в искусстве Ирана IX–XV вв. М., 1997.)].
Но человеческое воображение, если можно так выразиться, требовало зрительности, образности. На этот счет есть не лишенное юмора свидетельство аль-Газали в книге «Критерий знания, или Искусство логики». Он предлагает читателю поразмыслить о том знании, которое у читателя есть, о Творце мира, т. е. Боге, и о том, что Он существует, не будучи в каком-либо конкретном месте {мавджуд ля фиджиха}. Воображение сразу потребует от человека наделения Творца цветом, пространственными характеристиками (размером, близостью, удаленностью), связи с миром или отделенности от мира всего того, что человек видит в предметах, обладающих формой {шакль} и цветом. При этом воображение не требует наделения Бога вкусом и запахом. Так происходит потому, что воображение (во-ображ-ение) [Арабское слово тасаввур, которое обозначало в средневековой философской терминологии либо воображение, либо представление, образовано от слова сура (образ).], без которого человек в процессе мышления обойтись не может, «приучено в наибольшей степени и с наибольшей силой к зрительным данным {мудракат аль-басар}, и его требование [увеличить] долю зрения более настоятельно и насущно»>8 [Эта констатация аль-Газали может рассматриваться как своего рода перифраза слов Аристотеля, которыми он открывает свою «Метафизику»: «Все люди от природы стремятся к знанию, – говорит Стагирит. – Доказательство тому – влечение к чувственным восприятиям: ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия, ибо видение, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям, не только ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать. И причина этого в том, что зрение больше всех других чувств содействует нашему познанию и обнаруживает много различий [в вещах]» (

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.
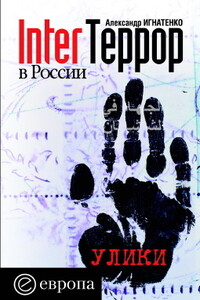
Что делают в России международные террористы? Ответ на этот вопрос дается через рассмотрение организации «Аль-Каида» как международной сетевой структуры, спекулирующей исламскими идеями для реализации нового мирового проекта. В книге подвергаются анализу организационные и идейные корни ваххабизма – одного из экстремистских направлений ислама, источника исламистского террора. Автор показывает, как идеи религиозных экстремистов – ваххабитов находят почву на российской земле, называет исполнителей и организаторов террористических актов, прогремевших в последние годы во всем мире.Иллюстрации, используемые в книге, взяты из исламистских источников в Интернете, а также из видеоролика, который был показан на телеканале Си-би-эс.

В книге известного российского востоковеда Александра Игнатенко на основе обширного фактического материала рассматриваются теоретические и практические вопросы взаимосвязи и взаимовлияния ислама и политики. Автор анализирует исторические обстоятельства возникновения, движущие силы и идеологию апеллирующих к исламу религиозно-политических движений рубежа XX и XXI веков в разных странах мира, включая Россию.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.