Земное притяжение - [2]
В этом удивительном, необычном - по сравнению с другими леоновскими книгами - произведении _внимательный_ читатель откроет неудивительное родство его с тем, что написано Леоновым, помимо "Бегства Мак-Кинли"; и наоборот, с помощью этого кинопамфлета читатель лучше поймет художественную оригинальность знаменитых леоновских романов.
И у Шефнера, и у Тендрякова мы также обнаруживаем родство фантастических произведений с их "обычными", нефантастическими. При этом суть дела не в том, что, скажем, в гранинских романах "Искатели" и "Иду на грозу" некоторые чисто научные мотивы стоят на рубеже технически возможного и технически невозможного (на сегодня). Наличие таких мотивов, например, в "Скутаревском" Леонова не делает этот роман принадлежащим "научной фантастике". Точно так же обстоит дело и с гранинскими романами и с "обычной" прозой Берестова, неплохо передающей атмосферу научных поисков и знакомящей с гипотезами археологической науки (например, очерковая повесть "Нож в золотых ножнах"). Суть дела, когда мы говорим об органичности для названных писателей их "фантастических опытов" в другом.
Всякий, кто знает творчество Тендрякова, кто когда-либо почувствовал, что одной из задушевнейших мыслей этого писателя является мысль об ответственности человека перед завтрашним днем, перед близкими и далекими потомками, не очень удивится, что в "Путешествии длиной в век" Владимир Тендряков-фантаст, именно он, вновь напряженно размышляет об этой ответственности. Его опыт фантастического жанра, несущий на себе и следы того, что это первый опыт, выдержан вполне в духе тендряковской проблематики вообще. Простого напоминания о романе "За бегущим днем", о такой повести, как "Суд", например, будет, я думаю, вполне достаточно для пояснения моей мысли.
У В.Шефнера - поэта-лирика - связь "обычного" творчества с его "фантастической" прозой, с его "Девушкой у обрыва", прослеживается не столь впрямую. Но она, безусловно, существует. "Нотка грусти" и "размышления" (по аттестации "фантастического" полуобывателя Ковригина - "излишние") действительно присущи стилю Шефнера-поэта. А самое главное, и в стихах Шефнера и в фантастической прозе Шефнера звучит мечта о гармонически прекрасном, духовно многостороннем человеке. И мысль об этой многосторонности (и "нотки грусти" от того, что в настоящем, да, оказывается, и в будущем, не все люди, увы, будут таковы, а глядишь, и Ковригины еще поборются за себя) - вот что составляет внутренний их нерв и особое обаяние.
Итак, и "Бегство мистера Мак-Кинли", и "Девушка у обрыва", и "Путешествие длиною в век" - произведения, не случайные для их авторов. И весьма серьезные по идейно-нравственному содержанию, так что ни о каком хобби, ни о какой "шутке", как о причинах их создания, не может быть и речи.
Среди произведений, вошедших в сборник, несколько особняком стоит рассказ Всеволода Иванова "Сизиф, сын Эола". Это произведение не о будущем, а о прошлом, далеком прошлом, и в столкновении Полиандра с легендарным Сизифом можно ощутить усмешку автора, так свободно, так нарочито использующего свое - неотъемлемое для творца - право на фантазию, на неожиданность. Но, понятное дело, не в этой усмешке суть новеллы. Перед нами притча очень серьезная и современная по смыслу, притча, разрушающая обаяние мужественности человека, ставшего профессиональным милитаристом. Даже Сизифов труд, тяжелый прежде всего своей бесцельностью оказывается, более человечен, чем радость солдата, мечтающего, что и в будущем ему представится возможность "грабить, убивать, насиловать и собирать сокровища".
Не будучи, собственно, научно-фантастическим произведением, эта новелла-фантазия Вс.Иванова строится на принципе _допущения_невероятного_ - на принципе, свойственном научно-фантастической литературе и _роднящем_ ее с легендой, романтической сказкой, гротескной сатирой и тому подобными "условными формами". "Что было бы, что произошло бы, если допустить возможным то-то и то-то... невозможное" - такая исходная ситуация не раз и не два доказывала свою благотворность для художественного творчества. Вне этой ситуации, без этого предположения литература фантастики вообще невозможна как таковая.
Конечно, Валентин Берестов шутит в новеллке "Алло, Парнас!" только и эта шутка "добрым молодцам урок", как говорится. "Люди должны быть счастливы", - заявляет Прометей; "Они не созрели для этого, отвечает шеф Юпитер и добавляет: - Они придут к этому сами!"
Остается нерешенным вопрос об основной и общей причине обращения писателей-нефантастов к фантастическому жанру. Чтобы ответить на него, конечно, мало указания на органичность такого обращения, хотя, с другой стороны, без этой органичности интересующий нас вопрос нельзя даже и поставить.
Обратим внимание на одну важную особенность представленных в сборнике произведений.
В них есть, чувствуется читателем, еще нечто - нечто такое, что заставляет предположить в авторах, даже если мы не знаем, кто их написал, не фантастов, а художников, анализирующих _современность_.
Что же это за "нечто"? Мастерство?
Да, по своему художественному уровню они, как правило, выше привычного уровня текущей фантастики. Хотя бы уже тем выше, что оригинальны, индивидуально неповторимы по стилю. Хотя бы уже тем, далее, что, возложив на себя каноны определенной формы (например, как у Шефнера, формы "жизнеописания", беллетризированных мемуарных записок недалекого человека о человеке выдающемся), писатели с блеском раскрывают ее возможности, нигде не "проговариваясь" против нее, не сбиваясь с избранного жанрово-стилистического направления.
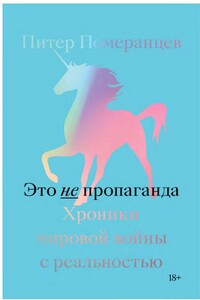
Добро пожаловать в эпоху тотальной информационной войны. Фальшивые новости, демагогия, боты в твиттере и фейсбуке, хакеры и тролли привели к тому, что от понятий «свободы слова», «демократии», как и от старых представлений о «левой» и «правой» политике, не осталось ни следа. Вольно и невольно мы каждый день становимся носителями и распространителями пропаганды. Есть ли выход и чему нас может научить недавнее прошлое? Питер Померанцев, журналист и исследователь пропаганды, отправился в кругосветное путешествие на поиски правды (или того, что от нее осталось)
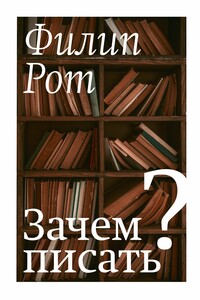
Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.

В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.
