Земля русская - [7]
— Пристрелка, — сказал отец. — Я знаю, чем это кончается. Уходите.
Он взял из угла у порога тросточку, с которой обычно ходил на конюшню, и вышагнул в сени. Я видел, как свернул он за хлевы, прошел огородом и подался в сторону Митиной мельницы. Снаряды рвались уже на гуменниках. На улице заголосили бабы. Мать схватила сестренку, что-то крикнула бабушке. Гвалт на улице стих — толпа кинулась на Игнашевскую дорогу, подальше от страшных трескучих хлопков, от которых уже вползала в избы удушливая тротиловая вонь.
Меня словно приковало к подоконнику. Я чувствовал грудью, как вздрагивала каждым бревном изба, видел, как отряхивается анисовка в саду и мягко, без звука, выпадают из рам стекла, и словно ждал чего-то самого любопытного, что вот-вот последует дальше.
Обстрел кончился, наступила тишина, которую потом, на фронте, станем называть пугающей, потому что за ней должно что-то начаться, а что — не знаешь. Но в тот день, сидя в пустой, с выдавленными стеклами избе и вдыхая тротиловую вонь, я вообще ничего не знал, кроме одного: в Верховинино, которое за весь свой век только и слышало что охотничью потеху в лесу, пришла война. Тишина длилась долго, часов пять, я успел обойти деревню, безмолвную, словно вымершую, показавшуюся мне нереальной, чужой, потому что еще не видывал брошенного людьми жилья и даже не представлял, что есть сила, способная заставить человека бросить нажитое, насиженное. Только перед закатом тишину начал вытеснять гул, сначала глухой, неясный, потом он все густел и густел, отчетливо проступил железный лязг, и вдруг сумерки распоролись огненным грохотом — это на шоссе, в усадьбе МТС, не видимым мне барьером лязгающему гулу встали красноармейцы. Наверно, их было немного, потому что после короткой заминки железный гул усилился, наплыл на Яров-клин и покатился по большаку мимо деревни.
Ждать было нечего. Я нацепил на пояс австрийский штык, принесенный отцом с германской войны и используемый дома для щепания лучины, закрыл сенную дверь на клямку и пошел через рожь к большаку. Наступила летняя ночь. Во ржи били перепела, и их хорошо было слышно, несмотря на гул, все еще плывущий по дороге. Оттуда несло бензиновой гарью и разогретым железом. В стороне что-то горело, по лесу бродили расстреноженные кони, отбившиеся от людей коровы, и — ни единого, насколько хватал слух, человечьего голоса, только машинный гул, топот копыт, крик перепела и беззвучное зарево на горизонте.
Утром повстречал отца. Присели на сугорке.
— Деревня цела? — спросил он.
— Да.
— Ты… насовсем?
Я кивнул. Он скрутил цигарку, закурил.
— Тебе нельзя оставаться, да. Бог милует, иди.
Мы не обнялись, не поцеловались, даже не пожали руки. Просто я постоял перед ним с опущенной головой и пошел, не оглядываясь, на восход солнца.
Сыновьям расставаться с отцами легче, чем с матерями. Отцы сдержаннее, суровее. Они уже были солдатами и знают, что обязанность сыновей — становиться солдатами. Иди, сын, твоя доля ждет тебя.
Так пустился я в свой первый и самый долгий, а точнее сказать, так и не кончавшийся путь — мерить шагами дороги родной земли. Всяко ходил: налегке и с полной солдатской выкладкой, без крошки в кармане и с тяжеленным «сидором» за плечами, по необходимости и по доброй воле, меня водили и я вел, месил осеннюю хлябь и глотал въедливую пыль, мок под дождями и изнывал от жажды — дороги есть дороги, но ни в одной не разочаровался, не раскаялся, потому что каждая дала уму свою каплю, добавила чувству свою грань.
И были на тех дорогах «судьбой дарованные встречи».
Как-то возвращались мы с товарищем из Старой Руссы в Новгород, остановились у села Коростынь, спустились к Ильменю. Сел я на большой валун, спустил ноги в теплую мелкую воду и вдруг подумал: вот ильменская вода, она ведь особенная, сюда, в огромную чашу, десятки рек и речушек принесли свои воды, разные, непохожие, то светлые родниковые, то мутные полевые, то темные лесные, то чистые дождевые, и смешались эти воды в одну, озерную, и когда она вытекает Волховом через Ладогу и Неву в Балтику, говорят: идет ильменская вода. Никто не найдет, не отличит в ней струи Полы и Ловати, Веряжи и Веронды, Мсты и Поломети, Шелони и Полисти, для всех она — особая, неповторимая ильменская вода.
Так и человек. Прошагает по земле, сотни людей встретит, от каждого что-то возьмет-переймет, а перемешаются в нем людские душевные струи, и станет он особенным, ни на кого не похожим, неповторимым.
Теперь, когда настала пора оглянуться и поразмыслить, когда улетучилась самоуверенность молодости, я признаюсь: да, брал от людей, перенимал, впитывал их душевные струи и ныне хочу разобраться, что и чье во мне.
Калинин был в копоти от пожаров, отполыхавших четыре месяца назад. На улицах дотаивали грязные сугробы, с Волги дул сырой апрельский ветер.
Здание обкома комсомола стояло черное, с пустыми окнами, без крыши. Прохожие назвали мне улицу, и я долго блуждал где-то на окраине, пока не набрел на деревянный домишко, в котором после освобождения города разместился обком.
В домишке было тесно и шумно. Только что закончился пленум, делегаты еще не разъехались, толпились в коридоре, спорили и, беспрестанно хлопая дверями, убегали куда-то что-то получать. Среди серых холщовых «сидоров» много было зеленых армейских — владельцы их, как нетрудно было догадаться, приехали из прифронтовых районов.
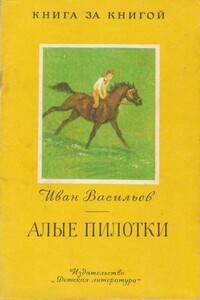
Повесть рассказывает об участии школьников в трудовой жизни своего колхоза, об их борьбе за сохранение урожая.

В сборник известного советского прозаика и очеркиста лауреата Ленинской и Государственной РСФСР имени М. Горького премий входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба произведения посвящены актуальным проблемам развития российского Нечерноземья и охватывают широкий круг насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».