Земля под копытами - [22]
В тишине, как рокот далекого самолета, слышался из села то ли плач, то ли стон. Встревоженная, Галя с трудом, чуть не на четвереньках, выползла на подворье. Хата Лавруни притаилась внизу, в морщинистой ладони глубокого оврага. Надел этот громада определила еще его отцу, когда вернулся домой после двадцати пяти лет солдатской службы. А гам все катился от ближних улиц по склонам, нарастая снежной лавиной, но внизу рассыпался — ни словечка не разобрать. Ухнул выстрел, замычала корова, кто-то бежал по улице, кованые подошвы гулко топали по твердой земле. Галя вернулась в сени, вытрясла муку из корытца в мешок. Когда снова выбежала на подворье, увидела, как по косогору тропкой, прямиком к хате, спускаются Костюк и еще двое — немцы. Схватила Телесика на руки и остановилась посреди двора как вкопанная. Немцы обвешались курами, как удачливые охотники. Сразу же приметили и Лаврунину рябку, с гоготом, приседая, погнали курицу в угол двора. Костюк опустился на колени под тыном:
— Дай, дед, воды напиться. Печет по-летнему, ма-ать вашу, дождь будет.
— А кой черт мне воды принесет? После гостеванья у вашего придурка Шуляка я и до колодца не доплетусь.
— Ты, дед, не лезь в пузырек! Сбирай-ка свои лохмоты и дуй на шлях, там колонна строится. Может, в саму Германию попадешь, культуры наберешься…
— Кому на своей земле тошно стало, тот хай и драпает — хоть в Германию, хоть прямиком на тот свет, — отбрил Лавруня. — А мне и дома хорошо, за ворот не каплет.
Костюк потемнел лицом:
— Вставай, старое чучело, да мотай в колонну, село эвакуируют! Большевики не окоротили, так я тебе язык твой мигом обкорнаю!
— Никуда я со своего двора не пойду, хлопче. Хоть ты меня убей! Тут пуп мой зарыт, тут и помру!
Немцы скрутили голову последней Лавруниной курице и теперь, гортанно перекликаясь, подходили к хате. Поночивна, прижавшись спиной к стене, пятилась вдоль хаты к огороду.
— Пойдемте, дедуня. Помогу, вам — на горку…
— Ступай, дочка, ступай, — молвил Лавруня, не поднимаясь с завалинки. — Ты иди и деток веди, а я свое отходил. По мне теперь хоть сама земля дыбом встань. Только, девка, не давай себя из родной грядки вырвать, в чужину завезти. Тьма эта черная пройдет, Галя, а мы — будем жить…
— Бывайте здоровы, дедусь, спасибо за жернова, — только и выдавила из себя непослушными губами.
— Ступай с богом.
И отвернулся, будто собирался подремать на солнышке, а ему все мешали. Тут один из немцев подошел к крыше, пыхнул зажигалкой — бледный под солнцем огонек озорно побежал по соломе. Медленно поднимался Лавруня с завалинки, будто на горбатой своей спине родную хату поднимал. А когда выпрямился, взлетела в его руке клюшка и упала тяжелой рукоятью прямо на голову поджигателя:
— Ты ее ставил, собирал, бревнышко к бревнышку, гадова твоя душа?! Да чтоб тебе в землю на два аршина провалиться! Чужое добро паскудишь, гитлерюга проклятущий!
Ни полицаи, ни солдаты не ждали от полуживого деда такой прыти. Немец, стоявший рядом с Лавруней, отскочил и нажал гашетку автомата.
Лавруня упал на землю без стона, без звука, тихо, как скошенная трава.
А Поночивна рванулась по склону оврага, прижимая к груди ребенка и торбочку с мукой. Не разбирала дороги, продиралась сквозь стену шиповника и терна и все ждала, что вот-вот стальные шмели вопьются в тело. Когда ж выбралась по косогору на улицу и оглянулась, Лаврунина хата пылала внизу, как свечка. «Тьма эта черная пройдет, Галя, а мы — будем жить…» — вспомнила слова деда и заплакала: некому Лавруне и глаз закрыть.
Поночивна перебежала через леваду по тропке, вдоль оврага, пробралась к своему огороду, а там, поминутно оглядываясь, — к хате. Двери были заперты. Постучала в окно. Открыл перепуганный Сашко:
— Ой, мамо, где вы так долго? Мы боялись, что вас угнали. Приходил староста с полицаями, дверь в погреб выбили, думали, вы в погребе спрятались. Говорили, как вернетесь, всем идти к управе, в колонну. А если не пойдем, хату спалят.
— А полицай рушник с иконы снял! — Слезы горошинами катились по замурзанному личику Андрея. — Я в рушник вцепился, а он меня ударил головой об лежанку.
— На Батыеву гору подались, сказали, еще зайдут.
Поночивна вспомнила покойного деда Лавруню, хатенку его в огне — и холодный пот прошиб: что она с малыми детьми без своего угла делать будет? Но и в лапы к ним нельзя идти — лучше уж живыми в землю. В Провалье, под пулеметы, либо в Германию — вот что такое их колонна. Голова как чумная стала: что взять, куда бежать? Но тут же опомнилась, приструнила себя: некому тебе, Галька, караул кричать, не от кого милости ждать.
— Сашко, Андрейка! Живо надевайте все теплое. Кролей выпускайте, пусть по двору бегают, в клетке с голоду помрут. А я сидор соберу, да и ноги на плечи…
Бросила в мешок торбочку с мукой, что у Лавруни смолола, из ларя выхватила две припрятанные хлебины, кусок сала (кума детям принесла), немного пшена и маку отсыпала, картошки бы еще — хоть на первый случай сварить, да как ты ее возьмешь, ведь не сто рук, из одежи зимней, что получше, прихватила… Того-сего, и уже, глядишь, целый тюк. Мешок через плечо, на вторую руку — Телесика, Андрейка за полу держится, а Сашку приказала козу вести. Чисто как цыгане. Пошла овражком к Днепру, а тут из-за кустов вдруг немецкий гогот. Едва успела Галя с козой и детьми нырнуть в поросший калиной ров — немцы прошли так близко, что хоть здоровайся с ними. А через высотки полицаи перекликаются. Страшно Гале: дети не орехи, в карман не спрячешь.
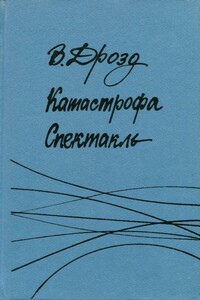
Известный украинский писатель Владимир Дрозд — автор многих прозаических книг на современную тему. В романах «Катастрофа» и «Спектакль» писатель обращается к судьбе творческого человека, предающего себя, пренебрегающего вечными нравственными ценностями ради внешнего успеха. Соединение сатирического и трагического начала, присущее мироощущению писателя, наиболее ярко проявилось в романе «Катастрофа».

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.

Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.