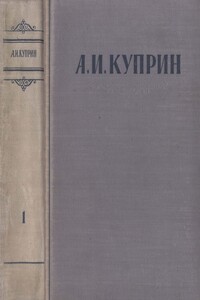Зелменяне - [71]
В это время остановились на улице, возле дома бабушки Баси, первые подводы с кирпичом.
Во дворе сразу стало темно от Зелменовых. Эти несколько простых крестьянских подвод привезли с собою страшную весть, и, хотя в доме тети Гиты уже было известно, что судьба двора решена раз и навсегда, все же сейчас у каждого защемило сердце.
Больно было за старый, низкий, теплый реб-зелменовский двор, где иногда еще произрастает втихомолку травка-любезник, а ночью, при свете луны, даже появляется древняя царица Савская в образе весьма призрачной графини Кондратьевой.
Письмо лежало на столе. Цалка торопливо вошел и еще раз установил, что печать из Петропавловска-на-Камчатке.
Юлиана с полудня не переставала кричать — у нее болел животик, — а Тоньки все не было. Вечером ей сообщили, еще на пороге, что сносят реб-зелменовский двор и что пришло письмо от ее мужа — он просит ее приехать.
Так догадываются в реб-зелменовском дворе о содержании письма по одному лишь взгляду на печать.
Цалка больше не выходил. Не зажигая света, он шагал у себя в сумрачной комнате и все выглядывал во двор: не зажглась ли там, у тети Гиты, лампа с зеленым абажуром? Если Тонька дома, в ее окне виден зеленый свет.
У Тоньки в комнате сегодня темно, хотя она уже давно дома.
По двору прошел слух, что Тонька плачет.
Раньше в окне было темно, и она плакала, потом в окне появился зеленый свет, а она все плакала.
— Говорят, что это Фалк зашел к ней и зажег лампу.
— Вот как? И она уже плачет? Слава Богу!
— Ничего, — ехидно успокаивали Зелменовы друг друга, — поплакать иногда не мешает.
— Слезы облагораживают человека.
Потом распространился слух, что Тонька осталась вдовой.
Зелменовы узнали, что там, за тридевять земель, муж ее, от которого она получала лишь письма с черными печатями из Петропавловска, «протянул копыта» — он утонул.
Письмо пришло от Тонькиной подруги, близорукой Нюты. Обе, оказывается, любили его одного, этого утонувшего, и теперь вдвоем оплакивают его: одна — на одном конце света, другая — на другом.
Фалк говорит, что муж ее был хорошим парнем, — разумеется, тоже из сорванцов. Но когда к нему прибежали, чтобы спросить, является ли утонувший отцом Тонькиной девочки, он ответил:
— Не ваше дело! Не вмешивайтесь, когда вас не просят!
Словом, у них, даже когда умирают, нельзя вмешиваться.
Тонька плачет. Женщины, когда растворили окна, будто слышали ее плач. Говорят, она сидит с носовым платком в руках и оплакивает свои молодые годы: кто возьмет ее теперь, с ребенком!
Зелменовы молчали. Посредством разных намеков, которые ткались тяжелой тканью, они передавали один другому, как бы по конвейеру, что в реб-зелменовском дворе уже точно известно самое главное об утонувшем. Во всяком случае, утонуть — это значит быть наказанным за какое-нибудь злодеяние. А между нами говоря — разве здесь не погубили безобидного мостильщика ни за что ни про что?
Старый дядя Ича нашел, что именно теперь подходящее время, и впервые в своей жизни попытался произвести перед женщинами слова из Торы, слова, в которых, на его беду, было много «ф», и потому они фукали в ушах злым ветром.
Это звучало примерно так:
— Фух мух лейфатфух вейфафойх лейфафойхе![22]
При этом дядя от неопытности слегка покраснел, но сразу почувствовал сам к себе уважение. Женщины переглянулись, весьма удивленные тем, что дядя Ича тоже разбирается в Священном Писании.
Дядя Ича вышел во двор. У Тоньки горела лампа под зеленым абажуром. Дядя долго вертелся по двору, останавливался возле сложенных кирпичей и кому-то кивал головой, подтягивая штаны, покуда наконец не заглянул в Тонькино окно: она сидела на старой кушетке с ребенком на коленях, уставившись на стену, но в глазах у нее, кажется, стояли слезы.
Вот так оплакивают покойника?!
Дядя Ича ушел к себе домой, думая: «И муж этот — не муж, и плач этот — не плач, и свет — не свет!»
Фалк побежал дать куда-то телеграмму.
Вечером Цалел дяди Юды зашел к Тоньке, зашел к ней, так сказать, утешить ее. Цалел, в очках, тихий и худой, сидел, как некто Элифаз из Йемена у небезызвестного человека по имени Иов. Свет из-под абажура падал на стол, на белые, узкие руки Цалела.
Целый час он сидел и молчал. Мыслей в голове не было, так как он уже все, пожалуй, передумал. Потом он посмотрел в сторону Тоньки. Съежившись на кушетке, в уголке, она карандашом писала что-то в блокноте, хотя в углу было очень темно.
Вдруг Цалел спросил:
— А когда я умру, ты немного поплачешь?
Тонька задумчиво посмотрела на него и ничего не ответила.
— И даже не вздохнешь?
Она молчала.
— Ты злая.
Так он ей сказал. Он подошел к кушетке и подал ей руку.
В домах сидели за ужином. Вечер был летний. Окошечки с электрическими лучистыми огоньками на стеклах весело поблескивали, хотя на душе было вовсе не так уже весело.
В окно видно было, как дядя Ича, без пиджака, с засученными рукавами, сидит, склоненный над миской, и хлебает деревянной ложкой — признак того, что он ест молочное. Дядя Ича делал сейчас два дела сразу: он ел и оплакивал двор.
Наверху в каменном доме окна были раскрыты. Несколько взрослых и детских голосов надрывались из последних сил, выпевая неторопливо, с зелменовской исступленностью, протяжную песню, которая здесь, во дворе, уже утеряла свою мелодию:

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевёл коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.
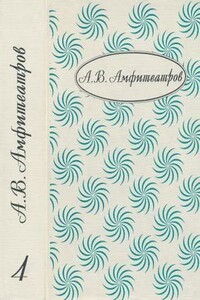
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
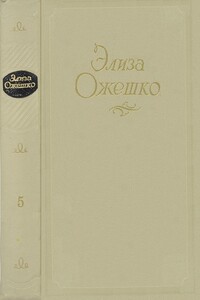
В 5 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли рассказы 1860-х — 1880-х годов:«В голодный год»,«Юлианка»,«Четырнадцатая часть»,«Нерадостная идиллия»,«Сильфида»,«Панна Антонина»,«Добрая пани»,«Романо′ва»,«А… В… С…»,«Тадеуш»,«Зимний вечер»,«Эхо»,«Дай цветочек»,«Одна сотая».

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.