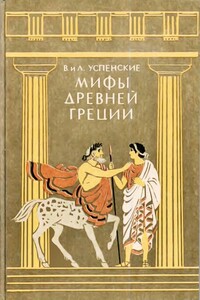Записки старого петербуржца - [3]
Этот Фима, сын аптекаря с Большого Сампсониевского проспекта, был совершенно как все, за исключением двух свойств – основного и вытекающего.
Во-первых, его облизала собака. Во-вторых, он был единственным на нашем горизонте лысым мальчиком.
Собака лизнула его в темя, по голове пошли фурункулы, их облучили рентгеном, и Фима Атлас облысел, как колено. Мы, остальные мальчишки, остро завидовали ему: мы-то были обыкновенными, волосатыми…
Никаких иных особых примет или достоинств у него не было.
А в тридцать девятом году до меня дошли сведения о Фиме. Господин Ефим Атлас был теперь миллионером, крупнейшим гуртовщиком скота во Французском Конго. Девятнадцатый год – деникинский юг России. Девятьсот двадцатый год – Принцевы острова вместе с Врангелем. Девятьсот двадцать второй – Бизерта, потом Конго, и служба у тамошнего плантатора, и брак с плантаторской дочерью, и…
Вот вам и лысый мальчик: граф Калиостро, всесветный авантюрист какой-то!
Уже в гимназии Мая на Васильевском процветал другой юнец, классом старше меня, скажем Петя Васильев; отец у него был видным инженером-путейцем.
И этот длинный и длиннолицый подросток тоже никакими выдающимися качествами не обладал: так, все на троечку. Была у него только одна выделявшая его из общего ряда привычка. Завидев на старшем, третьем, этаже школы случайно вбежавшего туда младшеклассника, он сладострастно жмурился, на цыпочках подкрадывался к этому малышу, осторожненько брал нарушителя школьной иерархии за локоток и затем, всю перемену ни на миг не отпуская его от себя, не давая вернуться в родной первый этаж, где играли в кошки-мышки, в пятну, где была жизнь, – медленно похаживая с ним кругами по старшему залу, ведя душеспасительное собеседование:
– А скажи-ка мне, Кокочка (или там – Димочка): ты папеньку своего слушаешься? Очень хорошо, милый мальчик; весьма похвально. А маменьку свою ты также слушаешься? Отлично, отлично, дорогое дитя! А повести ты, часом, не пишешь? И хорошо делаешь. Как это "отпустите"? Куда это тебя отпустить? Николай Васильевич Гоголь повести писал, – так знаешь, чем кончил? Э, куда, куда?!. Мне с тобой еще о многом поговорить надо: пойдем, пойдем!
Вот так; все остальное в норме.
Лет через двадцать после этого, в конце тридцатых годов, выйдя из Пассажа, я нос к носу столкнулся с отцом Пети; в то время этот отец был в Наркомате путей сообщения на весьма высоком посту.
Память некоторых людей на лица удивительна. Товарищ Васильев узнал в почти сорокалетнем гражданине гимназиста, раз или два бывавшего в 1916 году у его сына. Мы поздоровались. Он проявил приязнь и радость, вспомнил давние времена, вспомнил гимназию Мая, вспомнил моего отца, но ни единым словом не помянул своего сына. Точно его у него и не было.
Удивленный, я сообщил об этой странности одному своему другу, однокласснику Пети Васильева, – в то время уже большому ученому, математику – Янчевскому.
– Ну еще бы! – пожал тот плечами. – Конечно не станет он про него рассказывать, чего захотел!
Я не видел этого чудачливого Петю вот уже лет двадцать, с 1914 года. Кто знал, что из него могло получиться?
– А что, – спросил я, – оболтус вышел?
– Оболтус? Оболтус было бы полбеды…
– Ну, что ты говоришь? Совсем свихнулся?
– Свихнулся бы – папаша тебе так бы и сказал…
– Погоди, но – что же тогда?
– Приходи ко мне завтра, я тебе покажу что. Сам увидишь.
Словом, заинтересовал меня до крайности.
У себя дома математик Янчевский полез в ящик письменного стола и извлек оттуда желтую с белым книжечку американского журнала "National geographic Magazine" – он уже и тогда выходил с грубоватыми, но яркими, цветными фотоиллюстрациями.
– Вот, вникни!
На фото географического ежемесячника была изображена песчаная площадь в каком-то индийском селении. Высились пальмы, ширилось могучее дерево – жужубовое или там панданус. Посреди тлели угли костра; вокруг с полдюжины людей в тропических шлемах целились объективами фотокамер, а в центре, на горячих угольях, в задумчивой позе не то сидел, не то даже полулежал тощий человек в одной набедренной повязке, устремив очи горе.
И под картинкой была подпись:
"Русский факир П. Васильев доказывает, что его удивительные способности не пустое измышление адептов".
– Он? – ахнул я.
– А кто же? – фыркнул Янчевский. – Вот сам и сообрази: обнаружься у тебя сын – факир… Навряд ли ты побежал бы каждому весело рассказывать: "Мой Степочка, знаете, в Бенаресе третий год на столпе стоит…"
Да очень просто, "как вышло". Когда ты в семнадцатом году удалился под сень струй, во Псковскую, и, этаким Цинциннатусом, начал морковку сеять и курочек разводить (был такой период в моей жизни!), Петенька этот впал внезапно в религиозное исступление, уехал на Кавказ и постригся в монахи на Новом Афоне. Ну, пока там белые, деникинщина, спасаться было ничего, можно… Когда мы пришли, стало не так уж уютно. Он решил податься на тот Афон, Старый, в Грецию. Решил – и отправился. Не пироскафом [3], a "per pedes apostolorum" [4], пешечком, вокруг Понта Эвксинского [5]: монах же! Но, дойдя по пограничной речки Чорох, по-видимому, сбился с пути, взял не вправо, а влево и прибыл в Индию… А дальше?.. Что ж, монах, йог – велика ли разница?.. Результат, как видишь, засвидетельствован документально…

Лев Васильевич Успенский — классик научно-познавательной литературы для детей и юношества, лингвист, переводчик, автор книг по занимательному языкознанию. «Слово о словах», «Загадки топонимики», «Ты и твое имя», «По закону буквы», «По дорогам и тропам языка»— многие из этих книг были написаны в 50-60-е годы XX века, однако они и по сей день не утратили своего значения. Перед вами одна из таких книг — «Почему не иначе?» Этимологический словарь школьника. Человеку мало понимать, что значит то или другое слово.

Книга замечательного лингвиста увлекательно рассказывает о свойствах языка, его истории, о языках, существующих в мире сейчас и существовавших в далеком прошлом, о том, чем занимается великолепная наука – языкознание.

«Шестидесятая параллель» как бы продолжает уже известный нашему читателю роман «Пулковский меридиан», рассказывая о событиях Великой Отечественной войны и об обороне Ленинграда в период от начала войны до весны 1942 года.Многие герои «Пулковского меридиана» перешли в «Шестидесятую параллель», но рядом с ними действуют и другие, новые герои — бойцы Советской Армии и Флота, партизаны, рядовые ленинградцы — защитники родного города.События «Шестидесятой параллели» развертываются в Ленинграде, на фронтах, на берегах Финского залива, в тылах противника под Лугой — там же, где 22 года тому назад развертывались события «Пулковского меридиана».Много героических эпизодов и интересных приключений найдет читатель в этом новом романе.
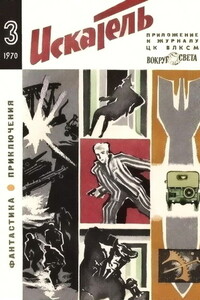
На 1-й странице обложки — рисунок А. ГУСЕВА.На 2-й странице обложки — рисунок Н. ГРИШИНА к очерку Ю. Платонова «Бомба».На 3-й странице обложки — рисунок Л. КАТАЕВА к рассказу Л. Успенского «Плавание «Зеты».
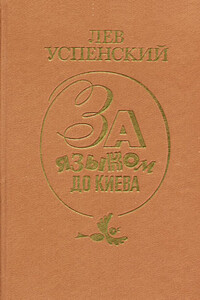
Рассказы из цикла «Записки старого скобаря». Словечко это Лев Васильевич Успенский всегда произносил с удовольствием и сам называл себя скобарем. За живыми узорчатыми зарисовками быта, нравов, характеров Псковщины 1917–1923 годов встают неповторимые, невыдуманные картины времени. Такой помнил и любил Псковщину писатель, живший подолгу в детстве и юности в небольшом псковском имении Костюриных (девичья фамилия матери), а позднее работавший в тех местах землемером. В этих рассказах, как говорил сам писатель, беллетристика сливается с занимательной лингвистикой.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
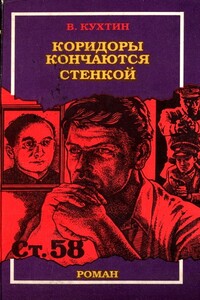
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.