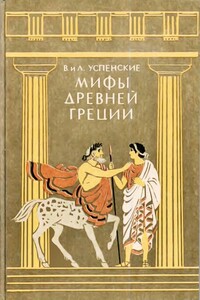Записки старого петербуржца - [16]
Сначала – и я об этом помню уже совсем смутно – тут, на окраинной Нюстадтской, редко, на больших расстояниях друг от друга, стояли прямые, некрасивые, по-моему даже еще не металлические, а деревянные, столбы, увенчанные наверху простодушными, вовсе архаического и провинциального вида, стеклянными домиками, в виде поставленных на меньшее основание четырехгранных усеченных пирамид, сверху прикрытых такими же четырехгранными железными крышами.
В каждом таком "скворечнике" была неприглядная керосиновая лампочка с узким стеклом-фонарем; точно такие же лампы продавались в керосиновых и посудных лавках на общую обывательскую потребу. Они горели на окнах, в мелких лавочках. Идя по улице, можно было видеть в окнах первого этажа тут сапожника, там столяра, занимающегося своей работой в зимней преждевременной серой полутьме, в свете – а точнее в рыжем смутном мерцании – точно такой же лампы, тут – трехлинейной, там – от великой роскоши – пятилинейной.
Пониже стеклянного "скворечника" на столбе была перекладина. В сумеречные часы позднего ноября или снежного декабря всюду на окраинах можно было видеть пропахших керосином фонарщиков. С коротенькой легкой лесенкой на плече, с сумкой, где был уложен кое-какой аварийный запас – несколько стекол, моток фитиля – фонарщик стремглав несся вдоль уличных сугробов, неустанно перебегая наискось от фонаря на четной к фонарю на нечетной стороне: расставлены фонари были в шахматном порядке.
Вот он у очередного столба. Лесенка брошена крючьями на перекладину, человек взлетает на ее ступеньки. Хрупкая дверка откинута, стекло привычным жестом снято… Спичка… Ветер – спичка гаснет, но это бывает редко. Каждый жест на счету, на счету и коробки со спичками. Огонь загорелся, стекло надето, дверца захлопнута… Две, три ступеньки. Лестница на плече, и – по хрустящему, размолотому тяжкими полозьями ломовых извозчиков, перемешанному с конским навозом снегу, по диагонали – к следующему столбу…
Каждый раз, когда я сворачивал на Нюстадтскую, я там, за Ломанским переулком, видел ее продолжение, убегающее куда-то в безмерную даль, за Нейшлотский, за Бабурин переулки. Там, по моим тогдашним представлениям, был как бы предел жилого мира. Там, по всему этому неоглядному протяжению, несся фонарщик, оставляя за собой цепочку слабых, боязливых, робко борющихся с ветром, дождем и тьмою огоньков. Но я останавливался.
Передо мной разворачивалась страница из задачника: "Фонарщик, перебегая зигзагом через улицу от фонаря к фонарю, зажигает их. За сколько времени успеет он осветить всю улицу, если длина улицы пятьсот семьдесят сажен, ширина двадцать сажен, расстояние между фонарными столбами сорок сажен, а на пробег от фонаря до фонаря…"
Я смотрел, и, мне казалось, что такие задачи явно не разрешимы. Как можно их решать, не зная, весел этот фонарщик или печален (я знал одного, который даже пел и с лестницей на плече, и там, на верху столба, вычиркивая спички); есть ли у него дети или нет; где он живет и зачем ему каждый день надо бегать по таким вот нескончаемым, уходящим в черную даль улицам?..
Впрочем, вполне возможно, что эти мои впечатления относятся уже не к тем фонарям, какие я описал, а к другим, их великолепным наследникам.
На исходе первого десятилетия XX века, летом, когда меня не было в городе, старые простенькие столбы вырыли, металлические "скворечники" свезли в переплавку или на свалку, и на моей Нюстадтской осенью меня встретили незнакомцы.
Эти фонари были вдвое выше тех. На верху деревянного столба, выше него, поднимался у них длинный, изогнутый плавным завитком кронштейн с блоком. Через блок был перекинут стальной трос, и, крутя рукоятку особого ключа, входящего в паз коробки, подвешенной на столбе внизу, фонарщик теперь спускал оттуда с высоты необыкновенное чудо техники – новый фонарь, керосинокалильный.
Это было сложное сооружение. Оцинкованный цилиндр больше метра в высоту увенчивался полой металлической баранкой – резервуаром для керосина. По трубкам горючее поступало в горелку в низу цилиндра, внутри откидывающегося в сторону стеклянного литого полушария. Над горелкой, на специальном крючке, подвешивался легкий, как из инея сотканный, кисейный, но пропитанный каким-то несгораемым составом белый колпачок, похожий на большой марлевый напалечник. Зажженная горелка раскаляла постепенно этот колпачок – он начинал желтеть, потом голубеть и вдруг вспыхивал ослепительно белым накалом…
Тогда, со скрипом, фонарщик поднимал махину фонаря – здоровенную дылду, почти в мой тогдашний рост, – наверх, бросал на панель бурые остатки колпачка, сгоревшего вчерашней ночью, и картонную трубочку от нового и после этого пускался, как и раньше, рысцой, наискось через булыжную мостовую, к следующему светильнику.
Теперь улица была освещена несравненно ярче. Висящие на своих кронштейнах груши этих фонарей раскачивал ветер; длинные тени метались по стенам квашнинского, крестинского, подобедовского шестиэтажных домов, и нам, жившим тогда в этих домах, уже казалось, что наступил век совершенного торжества осветительной техники. Что же дальше? Чего же еще желать для Выборгской стороны? И даже "конец мира" как-то удалился от

Лев Васильевич Успенский — классик научно-познавательной литературы для детей и юношества, лингвист, переводчик, автор книг по занимательному языкознанию. «Слово о словах», «Загадки топонимики», «Ты и твое имя», «По закону буквы», «По дорогам и тропам языка»— многие из этих книг были написаны в 50-60-е годы XX века, однако они и по сей день не утратили своего значения. Перед вами одна из таких книг — «Почему не иначе?» Этимологический словарь школьника. Человеку мало понимать, что значит то или другое слово.

Книга замечательного лингвиста увлекательно рассказывает о свойствах языка, его истории, о языках, существующих в мире сейчас и существовавших в далеком прошлом, о том, чем занимается великолепная наука – языкознание.

«Шестидесятая параллель» как бы продолжает уже известный нашему читателю роман «Пулковский меридиан», рассказывая о событиях Великой Отечественной войны и об обороне Ленинграда в период от начала войны до весны 1942 года.Многие герои «Пулковского меридиана» перешли в «Шестидесятую параллель», но рядом с ними действуют и другие, новые герои — бойцы Советской Армии и Флота, партизаны, рядовые ленинградцы — защитники родного города.События «Шестидесятой параллели» развертываются в Ленинграде, на фронтах, на берегах Финского залива, в тылах противника под Лугой — там же, где 22 года тому назад развертывались события «Пулковского меридиана».Много героических эпизодов и интересных приключений найдет читатель в этом новом романе.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.