Записки актера Щепкина - [23]
Когда нас познакомили, он тотчас взял меня за руку и подвел к жене Калиновского с такими словами: "Анна Ивановна Кали-новская, первая наша актриса — с огнем баба!" Между тем артисты начали опять прерванную нашим приходом репетицию. Дон Жуана играл Калиновский, а Лепорелло — Угаров. Когда я начал вслушиваться в разговор действующих лиц, то чрезвычайно смутился: я знал Мольерова "Дон Жуана"; но это был не тот, а другой, и точно другой. Этот "Дон Жуан" был переведен с польского г. Петровским, который, как видно, не знал хорошо русского языка; перевод этот был такая галиматья, что я не мог понять, как можно было играть подобную пьесу в университетском городе, как Харьков. К довершению всего Калиновский говорил польским выговором, как, например, чего и т. п. Обо всем этом я не сказал ни слова из скромности. Но я не мог утерпеть, чтоб не спросить Калиновского, как у Них устроена последняя сцена, где являются фурии. Он отвечал мне: "Теперь эта сцена будет не так эффектна, как прежде. Прежде делалась чистая перемена, и декорация представляла ад: фурии выбегали, вылетали, выскакивали из земли и увлекали Дон Жуана. Теперь же этого не будет, потому что декорацию, представлявшую ад, как везли из Кременчуга, смыло дождем, и теперь просто фурия слетит сверху, схватит Дон Жуана и унесет". — "А! — подумал я, — здесь, стало быть, есть и машины", и пошел осматривать сцену; но, к моему удивлению, я ничего не заметил, кроме балок, чистосердечно лежавших поперек сцены. Мне совестно было спросить и обнаружить таким образом свое невежество, тем более что, учившись в народном училище, я ознакомился несколько с механикою, по крайней мере знал силу рычага, пользу блока и действие ворота; но здесь ничего подобного не было видно. С нетерпением жду я конца репетиции, полагая, что будут пробовать полет, — не тут-то было! Репетиция кончилась, и когда я спросил: "Не будут ли пробовать полета?" — то Калиновский отвечал: "Нет! эта машина хорошо устроена, и пробовать нечего". И мне стало стыдно, что я не мог отыскать этой машины.
Обедать мы приглашены были к Калиновскому. Не буду рассказывать всех любезностей хозяйки и всех острот Угарова. К концу обеда вошел очень высокий мужчина, в длинном синем сюртуке, подпоясанном кушаком, с волосами в скобку, но с бритою бородой, и сказал, обратясь к Калиновскому: "Пожалуйте, Осип Иванович, денег за машину". Меня так и взволновало. "Что за машина?" — спросил я. "А это Дон Жуана поднимать",- отвечали мне.
Я попросил позволения посмотреть машину. "Принеси",- сказал Калиновский длинному сюртуку, который, как я после узнал, был главным машинистом. Он вышел и скоро возвратился, принеся с собою два толстых ремня немного потоньше тех, которые употребляются для рессор в дрожках. Оба ремня были с железными толстыми пряжками. У одного из них посредине пришит был дратвами железный крючок значительной толщины, а у другого пришито было такой же прочности железное кольцо. Не понял я механизма и спрашиваю: "Что же из этого будет?" Тогда Калиновский берет ремень с крюком, стягивает его на себе пряжкой, которая пришлась назади, крючок же очутился напереди. "А вот что, — говорит он, — этим поясом подпояшется фурия, у нее крючок напереди, а Дон Жуан подпояшется другим поясом, у которого кольцо будет назади. Таким образом, фурия, спустясь сверху, обхватит одною рукой Дон Жуана, а другою наденет кольцо на крючок и унесет его". Да, — подумал я, — стало быть, я не рассмотрел; верно, есть где-нибудь и ворот и блоки, — и еще более убедился в этом, когда машинист сказал: "Пожалуйте, Осип Иванович, еще денег на канат, а то старый сгнил совершенно". При выдаче денег Калиновский прибавил: "Да не забудь выкрасить канат черною краской, чтоб не так было приметно".
С ужасным нетерпением я ожидал вечера, чтоб идти в театр; механизм сводил меня с ума. Наконец, около семи часов мы пришли в театр. Я тотчас бросился на сцену рассмотреть все хорошенько и отыскать машину. По тщательном осмотре я нашел кое-что, а именно: от второй до третьей кулисы, посредине сцены положено было с балки на балку круглое бревно, и на этом бревне торчали два огромных гвоздя, вершка на полтора один от другого. Кроме того, точно такое же бревно, на тех же балках и с такими же гвоздями, положено было за кулисами. Всего этого прежде не было. Я отыскал длинный сюртук и спросил его: для чего положены эти бревна? А он мне в ответ: "Это машина — подымать Дон Жуана". — "Как же это? Расскажи, пожалуйста", — сказал я. — "А вот, изволите видеть, эти два гвоздя на этом бревне, за кулисами? Между них пропустится веревка и протянется до половины сцены, где лежит вот другое бревно, и пропустится также между двумя гвоздями. Изволите видеть? А там фурия будет сидеть на балке, и веревка эта привяжется ей сзади, и когда фурия будет спускаться, то гвозди не дадут веревке сдвигаться, и фурия спустится прямо". — "Как же? воротом будут подымать?"- спросил я. "Нет, — отвечал длинный сюртук, — просто на руках". — "Да ведь это очень тяжело", — говорю я. "Да ведь здесь, — прибавил он, — за кулисами народу будет много, а к тому же мы веревку намажем салом: оно будет полегче". Покачал я головой и пошел в кресла. Начался спектакль. Угаров приводил всех в восторг, да и к Калиновскому публика, как видно, привыкла, так что, несмотря на его выговор, много раз одобряла. Перед пятым актом я не утерпел, пошел на сцену и увидел, что фурия уже сидела на балке, а человек с десять стояли за кулисами и держались за веревку. "Кто это, — спросил я, — одет фурией?" — "Это мой помощник Миньев",- отвечал механик. Я возвратился в кресла и ждал окончания пьесы. Наконец дождался: Дон Жуан в отчаянии призывает фурий! И вот посреди театра из падуги показывается пара красных сапог, потом белая юбка с блестками, а наконец является и вся фигура фурии. Костюма фурии подробно передать я не в состоянии: какой-то шарф перекинут через плечо, на голове какой-то венец с рогами. Но это все ничего, а вот что было изумительно: как только фурия отделилась совсем от балки и повисла на веревке, то новая веревка от тяжести стала вытягиваться и раскручиваться, и так как фурию спускали медленно, то она, прежде чем стать на ноги, перевернулась раз двенадцать, отчего голова у ней, разумеется, закружилась (выпила она для храбрости тоже порядочно). Ставши на пол, фурия ничего не видит; одною \'рукой держит крючок, а другою, размахивая, ищет Дон Жуана, но ищет совсем в другой стороне. Калиновский в бешенстве забывает, что это на сцене, и кричит громко: "Гунство! сюда! сюда!" Наконец, фурия ощупывает кое-как Дон Жуана, обхватывает его одною рукою, а другою старается поддеть кольцо на крючок… но никак не подденет. Калиновский в совершенном отчаянии, желая помочь горю, протягивает назад руку, берет свое кольцо, а между тем бранные слова сыплются на фурию; но ничто не помогает, и фурия никак не может сцепиться с Дон Жуаном. Всему этому аккомпанирует шум в публике: тут было и шиканье, и смех, и громогласное браво. Все это было для меня что-то неслыханное и невиданное и потрясло меня до основания. Я выбежал из кресел, бросился на сцену, вырвал у механика веревку и опустил занавес. И надо было видеть, с каким остервенением Дон Жуан начал терзать фурию за волосы… Тем и кончилось представление "Дон Жуана".

Рассказ о жизни и делах молодежи Русского Зарубежья в Европе в годы Второй мировой войны, а также накануне войны и после нее: личные воспоминания, подкрепленные множеством документальных ссылок. Книга интересна историкам молодежных движений, особенно русского скаутизма-разведчества и Народно-Трудового Союза, историкам Русского Зарубежья, историкам Второй мировой войны, а также широкому кругу читателей, желающих узнать, чем жила русская молодежь по другую сторону фронта войны 1941-1945 гг. Издано при участии Posev-Frankfurt/Main.
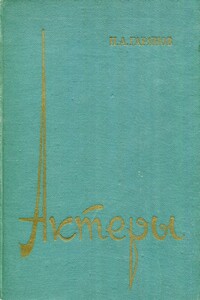
ОТ АВТОРА Мои дорогие читатели, особенно театральная молодежь! Эта книга о безымянных тружениках русской сцены, русского театра, о которых история не сохранила ни статей, ни исследований, ни мемуаров. А разве сражения выигрываются только генералами. Простые люди, скромные солдаты от театра, подготовили и осуществили величайший триумф русского театра. Нет, не напрасен был их труд, небесследно прошла их жизнь. Не должны быть забыты их образы, их имена. В темном царстве губернских и уездных городов дореволюционной России они несли народу свет правды, свет надежды.

В истории русской и мировой культуры есть период, длившийся более тридцати лет, который принято называть «эпохой Дягилева». Такого признания наш соотечественник удостоился за беззаветное служение искусству. Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) был одним из самых ярких и влиятельных деятелей русского Серебряного века — редактором журнала «Мир Искусства», организатором многочисленных художественных выставок в России и Западной Европе, в том числе грандиозной Таврической выставки русских портретов в Санкт-Петербурге (1905) и Выставки русского искусства в Париже (1906), организатором Русских сезонов за границей и основателем легендарной труппы «Русские балеты».

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.