Запах серы - [15]
Но не говори гоп, пока не перепрыгнешь! Один мой товарищ долго ехал по автостраде, борясь со сном. Подъезжая к повороту, ведущему к дому, и чувствуя себя уже у цели, он на несколько секунд задремал и чуть не погиб. Другой упал в трещину на леднике, хорошо заметную для альпиниста его квалификации: он возвращался из одиночного — стало быть, небезопасного — восхождения и как раз вышел на свободный от снега ледник. Третий был заброшен в июне 1944 года в немецкий тыл. Две недели его группа проводила рискованнейшие операции, не потеряв при этом ни одного человека. Но в тот момент, когда первые английские танки показались на краю пшеничного поля, где группа ожидала их, он вскочил, не помня себя от радости, и побежал им навстречу. Спрятавшийся поблизости фашист скосил его очередью в спину…
Мы предпочли укрепить на третьей стенке лестницы. Запасено их было достаточно, и не только спелеологических, но и жестких, из дюраля, — для тех, кто работал с инструментами, и для людей неспортивных. Не довольствуясь этим, мы потребовали от ученых надежно страховаться веревкой. Никто из них не протестовал… До основания стены мы добрались без затруднений и двинулись среди осыпей к широким плитам плавучего острова.
Плавучий остров был скорее всего остатком верхней платформы, обрушившейся при опускании столба магмы и частично переваренной лавой. Мы вышли к небольшой впадине, откуда били раскаленные газы. Впервые после стольких лет усилий я достиг места, где мог брать на пробу совсем свежие газы. Ведь в 999 случаях из 1000 анализируются газы фумарол, то есть смесь небольшого количества подлинных вулканических газов с большим количеством подземной воды или атмосферного газа. До нас только дважды отбирались газы с температурой выше 1000°. Вот почему ампулы объемом 200 квадратных сантиметров, которые мы наполнили газом с температурой 1040 °C, стали одним из моих сокровищ.
Метрах в пятидесяти к западу от этого эруптивного отверстия, прозванного нами Жаровней, находилась главная цель первого рейда в огненный колодец Ньирагонго, — Большой ревун. Лишь сейчас мы определили, что площадь этого отверстия равнялась примерно квадратному метру. Из него вырывалось длинное горизонтальное пламя, совершенно невидимое при свете дня. Мы приближались к ревущей пасти дракона с превеликой осторожностью, но условия для взятия проб оказались вполне приличными. Чистота образцов тем больше, чем выше давление и температура эманации. Тюльпен, несмотря на свою недюжинную силу, едва удерживал в струе заборную трубку, а термопара показывала от 990 до 1020 °C в метре от входа в жерло. Сделать замеры глубже нам не удалось…
Под губой кратера
На следующий день мы дошли до третьей кольцевой террасы шириной в несколько шагов. Невыносимый жар озера остановил меня в шаге от отвесного борта.
В 4 метрах от себя я увидел пленку охлаждения из атласного металла, трепещущую, как я установил позднее, от бесчисленных пузырьков газа. Слева озеро расширялось наподобие лимана. Справа оно сужалось и образовывало южный рог полумесяца, раздвоенный полуостровом длиной метров тридцать и шириной метров шесть — десять.
По перешейку мы вышли на последнюю платформу и оказались менее чем в 2 футах от лавы. Южный берег полуострова обрамлял спокойную бухту, которую мы только что обогнули, а на северный падали брызги от фонтанов. У подножия обрыва, которым кончался плавучий остров, скользила огненная река шириной метров пятнадцать. Еще сверху мы разглядели, что она выходила где-то в середине озера и набирала скорость по мере приближения к его концу. Продвигаясь среди своих черных берегов, эта черная река вспучивалась все более широкими и мощными фонтанами и низвергалась в раскаленную пещеру.
Такую чудовищную пещеру можно было только придумать. Иероним Босх, Гюстав Доре и Эдгар По, вместе взятые, не сумели бы создать более дьявольской людоедской глотки! Вход в нее был ярко-красным, а со свода свисали сталактиты, похожие на клыки огненного тиранозавра. Нутро пещеры было цвета жидкого золота…
Сильный жар и ядовитый воздух порядком утомили нас; толстые каучуковые подошвы заметно поплавились, а в моем левом ботинке даже появилась дырка. Одежда разлезалась под воздействием едких, обжигающих газов. Но, несмотря на усталость, настроение было приподнятое.
Три дня исследований
Назавтра мы подняли Эврара на верхнюю платформу, и я попросил Тормоза и Дерю присоединиться к нам. Мне нужна была совершенно надежная команда для сбора образцов и замеров температур. Три последующих дня были посвящены этим работам. Мы выяснили, что по сравнению с газами, проанализированными Джеггером на Килауэа, газы Ньирагонго содержали больше углекислого и меньше сернистого газа.
Мы сами расставили сейсмографы вместо Берга, и за 2 недели Шимозуру отметил 15 землетрясений: пять на вулкане, девять на рифте и одно весьма отдаленное. Но прежде всего он изучал микросейсмическое волнение. После месяца наблюдений он пришел к выводу, что его можно приписать продольной вибрации столба вязкой лавы высотой 500 метров.
В северном роге фонтаны действовали менее мощно. В нем тоже была пещера, куда большую часть времени приливала лава, но она впечатляла меньше, чем ее южная сестра. Может быть, это объяснялось тем, что с ее стороны наблюдать происходящее можно было только с балкона третьей платформы, взглянуть же внутрь не удавалось.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Гарун Тазиев, известный вулканолог, рассказывает о своих необычайных путешествиях, связанных с изучением деятельности вулканов. Очень точно он описывает поразительные зрелища и явления, происходящие при извержении вулканов, которые он наблюдал.В книге приводится история гибели цветущего города Сен-Пьер, а также ряд других историй, послуживших уроком для человечества в деле более пристального изучения грозного явления природы.

Гарун Тазиев, известный вулканолог, рассказывает о своих необычайных путешествиях, связанных с изучением деятельности вулканов. Очень точно он описывает поразительные зрелища и явления, происходящие при извержении вулканов, которые он наблюдал.В книге приводится история гибели цветущего города Сен-Пьер, а также ряд других историй, послуживших уроком для человечества в деле более пристального изучения грозного явления природы.

Гарун Тазиев, известный вулканолог, рассказывает о своих необычайных путешествиях, связанных с изучением деятельности вулканов. Очень точно он описывает поразительные зрелища и явления, происходящие при извержении вулканов, которые он наблюдал.В книге приводится история гибели цветущего города Сен-Пьер, а также ряд других историй, послуживших уроком для человечества в деле более пристального изучения грозного явления природы.

Гарун Тазиев, известный вулканолог, рассказывает о своих необычайных путешествиях, связанных с изучением деятельности вулканов. Очень точно он описывает поразительные зрелища и явления, происходящие при извержении вулканов, которые он наблюдал.В книге приводится история гибели цветущего города Сен-Пьер, а также ряд других историй, послуживших уроком для человечества в деле более пристального изучения грозного явления природы.
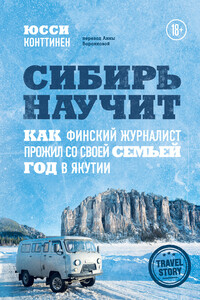
История финского журналиста, который отправился на год в самый холодный регион России – Якутию. Юсси Конттинен вместе с семьей прожил год в якутской деревне, в окружении вечной мерзлоты. Он пережил суровую зиму, научился водить «УАЗ» и узнал, каково это – жить в Сибири. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
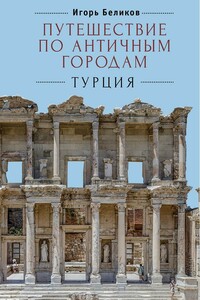
Книга открывает для читателей мир истории, архитектуры и культуры античных греко-римских городов, расположенных в западной части современной Турции. Вместе с автором вы побываете в античных городах, оказавших очень сильное влияние на развитие европейской цивилизации, таких как Милет, Эфес, Пергам, Сарды, Приена, Афродисиас и др. Детальное, яркое описание позволит читателю ощутить себя современником исторических личностей, тесно связанных с этим регионом — Фалеса, Фемистокла, Аристотеля, Гераклита, Александра Македонского, Марка Антония, римских императоров Адриана, Траяна, Марка Аврелия, первых апостолов, пройтись по тем же улицам, по которым ходили они, увидеть места, описанные в самых известных древнегреческих мифах и трудах античных историков и писателей.

В книге описывается путешествие, совершенное супругами Шрейдер на автомобиле-амфибии вдоль Американского континента от Аляски до Огненной Земли. Раздел «Карта путешествия» добавлен нами. В него перенесена карта, размещенная в печатном издании в конце книги. Для лучшей читаемости на портативных устройствах карта разбита на отдельные фрагменты — V_E.
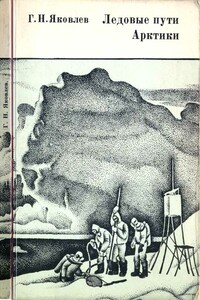
Аннотация издательства: «Автор этой книги — ученый-полярник, участник дрейфа нескольких станций «Северный полюс». Наряду с ярким описанием повседневной, полной опасностей жизни и работы советских ученых на дрейфующих льдинах и ледяных островах он рассказывает об успехах изучения Арктики за последние 25 лет, о том, как изменились условия исследований, их техника и методика, что дали эти исследования для науки и народного хозяйства. Книга эта будет интересна самым широким кругам читателей». В некоторые рисунки внесены изменения с целью лучшей читаемости на портативных устройствах.
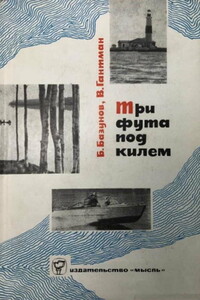
Заметки о путешествии по водному маршруту из Кронштадта в Пермь. Журналист Б. Базунов и инженер В. Гантман совершили его за 45 дней на катере «Горизонт» через Ладожское озеро, систему шлюзов Волго-Балта, Рыбинское водохранилище, по рекам Волге и Оке.
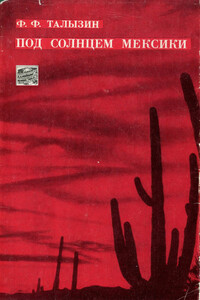
Автор этой книги врач-биолог посетил.) Мексику по заданию Министерства здравоохранения СССР и Всемирной организации здравоохранения для оказания консультативной помощи мексиканским врачам в их борьбе с малярией. Он побывал в отдаленных уголках страны, и это позволило ему близко познакомиться с бытом местных жителей-индейцев. Описание природы, в частности таких экзотических ландшафтов, как заросли кактусов и агав, различных вредных животных — змей, ядозуба, вампира, придает книге большую познавательную ценность.