Западный канон - [12]
Движение изнутри традиции не может иметь идеологического характера или служить какой бы то ни было общественной задаче, даже самой достойной с этической точки зрения. Пробиться в канон позволяет одна лишь эстетическая сила, которая есть прежде всего амальгама: владение образным языком, самобытность, когнитивная сила, эрудиция, яркость стиля. Итоговая несправедливость исторической несправедливости состоит в том, что она вовсе не обязательно наделяет своих жертв чем-то, кроме ощущения жертвы. Чем бы ни был Западный канон, программой социального спасения он не является.
Самое глупое, что можно предпринять для защиты Западного канона, — это настаивать на том, что он воплощает все семь смертных нравственных добродетелей, на которых зиждется наш предполагаемый диапазон нормативных ценностей и демократических принципов. Это явно не так. «Илиада» учит, что нет ничего славнее победы в бою, а Данте упивается вечными муками, на которые обрекает своих личных врагов. Толстовская частная версия христианства отметает практически все, на чем каждый из нас стоит, а Достоевский проповедует антисемитизм, обскурантизм и необходимость закрепощения. Политические взгляды Шекспира — насколько их можно установить — предстают не слишком отличными от политических взглядов его Кориолана, а Мильтоновы идеи свободы слова и печати не предполагают отказа от всевозможных социальных ограничений. Спенсер упивается расправой над ирландскими мятежниками, а маниакальный эгоцентрик Вордсворт превозносит свой поэтический дар над всяким прочим источником благолепия.
Величайшие западные писатели опрокидывают все системы ценностей — и наши, и свои собственные. Ученые, призывающие нас черпать моральные и политические представления у Платона или Исайи, оторваны от социальной действительности, в которой мы живем. Я твердо убежден, что, если мы будем читать Западный канон с тем, чтобы сформировать для себя систему социальных, политических или индивидуальных ценностей, то превратимся в чудовищных себялюбцев-угнетателей. Чтение в пользу какой бы то ни было идеологии — это, по-моему, вообще не чтение. Восприятие эстетической силы позволяет нам научиться разговаривать с самими собою и терпеть самих себя. Истинное назначение Шекспира и Сервантеса, Гомера и Данте, Чосера и Рабле — способствовать развитию глубинной сущности человека. Вдумчивое чтение Канона не сделает человека лучше или хуже, не сделает его более полезным или более вредоносным членом общества. Диалог рассудка с самим собою — не социальное в первую очередь явление. Западный канон дает человеку одно: возможность должным образом распорядиться своим уединением — уединением, итоговая форма которого есть столкновение человека со своей смертностью.
Канон у нас есть оттого, что мы смертны и за временем нам не угнаться. Время идет и кончается, а чтения сейчас больше, чем когда-либо прежде. Фрейда, Кафку и Беккета отделяет от Яхвиста и Гомера дорога почти в три тысячелетия. Ввиду того что на этом пути встречаются такие необъятные гавани, как Данте, Чосер, Монтень, Шекспир и Толстой, каждого из которых можно перечитывать всю жизнь, перед нами — практическая дилемма: интенсивно читая или перечитывая что-нибудь, мы всякий раз от чего-то отказываемся. Одно древнее испытание на каноничность остается безжалостно надежным: произведение может стать каноничным только в том случае, если требует перечитывания. Эротическая параллель тут неизбежна. Если вы — Дон Жуан и Лепорелло ведет учет, то вам будет достаточно и одной короткой встречи.
Вопреки мнению некоторых парижан, текст существует для того, чтобы доставлять не удовольствие, а сильное неудовольствие, или удовольствие более сложное, какого малозначительный текст не принесет[41]. Я не готов оспаривать поклонников «Меридиана» Элис Уокер, романа, который я заставил себя прочесть дважды, но второе чтение было одним из самых моих примечательных опытов, связанных с литературой. Наступило прозрение, и мне ясно увиделся новый принцип, подразумевающийся в лозунгах тех, кто провозглашает «вскрытие» Канона. Правильная проверка на новую каноничность проста, очевидна и чудесно способствует социальным переменам: произведение не должно и не может перечитываться, потому что его вклад в социальный прогресс — та готовность, с которой оно отдается на стремительное проглатывание и забвение. С Пиндара до Гёльдерлина и Йейтса великая ода, канонизирующая сама себя, провозглашала свое агонистическое бессмертие. Социально приемлемая ода будущего, безусловно, избавит нас от таких претензий и обратится к надлежащему смирению совокупного сестринства, к новой возвышенности лоскутного одеяла — излюбленной метафоры феминистского литературоведения.
И все же нам приходится выбирать: раз время идет, Элизабет Бишоп нам перечитать или Эдриен Рич? Отправиться мне снова на поиски утраченного времени с Марселем Прустом — или попытаться еще раз перечитать волнующее обличение Элис Уокер всех мужчин, и черных, и белых? Мои бывшие студенты, многие из которых сейчас — звезды Школы ресентимента, провозглашают, что учат устранять из социальных отношений свое «я», для чего сперва нужно научиться устранять свое «я» из чтения. У автора нет «я», у литературного персонажа нет «я» и нет «я» у читателя. Должны ли мы собраться на берегу реки с этими щедрыми призраками, освобожденными от вины в былом самоутверждении, креститься ли в водах Леты? Что нам делать, чтобы спастись?
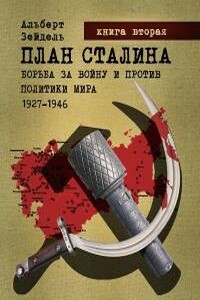
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
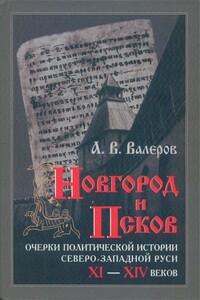
В монографии освещаются ключевые моменты социально-политического развития Пскова XI–XIV вв. в контексте его взаимоотношений с Новгородской республикой. В первой части исследования автор рассматривает историю псковского летописания и реконструирует начальный псковский свод 50-х годов XIV в., в во второй и третьей частях на основании изученной источниковой базы анализирует социально-политические процессы в средневековом Пскове. По многим спорным и малоизученным вопросам Северо-Западной Руси предложена оригинальная трактовка фактов и событий.
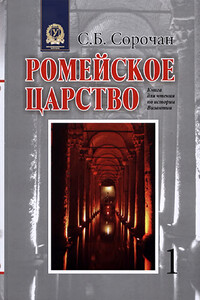
Книга для чтения стройно, в меру детально, увлекательно освещает историю возникновения, развития, расцвета и падения Ромейского царства — Византийской империи, историю византийской Церкви, культуры и искусства, экономику, повседневную жизнь и менталитет византийцев. Разделы первых двух частей книги сопровождаются заданиями для самостоятельной работы, самообучения и подборкой письменных источников, позволяющих читателям изучать факты и развивать навыки самостоятельного критического осмысления прочитанного.

"Предлагаемый вниманию читателей очерк имеет целью представить в связной форме свод важнейших данных по истории Крыма в последовательности событий от того далекого начала, с какого идут исторические свидетельства о жизни этой части нашего великого отечества. Свет истории озарил этот край на целое тысячелетие раньше, чем забрезжили его первые лучи для древнейших центров нашей государственности. Связь Крыма с античным миром и великой эллинской культурой составляет особенную прелесть истории этой земли и своим последствием имеет нахождение в его почве неисчерпаемых археологических богатств, разработка которых является важной задачей русской науки.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.
