Замок Нейгаузен - [2]
– Скорее ваш меч разрастется в ножнах, нежели Эмма согласится бежать…
– Но скорее рука моя будет вращать веретено вместо копья, чем я откажусь от своего намерения. Для моей воли нет завета, ни препон – кроме гибели. Пусть Эмма добродетельна, верна, – но ведь она женщина; она прекрасна и, следовательно, тщеславна. Одним словом, Конрад, я истощу весь арсенал обольщений: буду нежен как дамская перчатка, гибок как страусовое перо; стану звенеть золотом и железом, пролью слезы и кровь, и волею или неволею, но Эмма будет в моих объятиях – или Ромуальд фон Мей в когтях демона. Что же до самого барона…
Конрад прервал его запальчивость, показав на часового, который приближался к ним по зубчатой, стене. Рыцарь понизил голос, но по его движениям, по его сверкающим взорам видно было, что дело шло о чем-то важном. Конрад сомнительно покачал головою, и два злодея расстались.
II
Круглая зала Нейгаузена освещена была двумя большими свечами из желтого воска, воткнутыми в двурогий железный светец. Пламя их веяло по воле ветра, проникающего в неровный свинцовый переплет готических окон, но блеск не достигал под вершину остроконечных сводов, зачерненных дыханием времени, и только изредка отсвечивались по стенам щиты и кирасы и двойная тень мелькала от оленьих рогов, между ими прибитых. Две тяжелые печи, испещренные муравлеными украшениями[8], стояли друг против друга. Дебелый дубовый стол занимал средину комнаты. За ним сидел рыцарь Ромуальд фон Мей и беспечно стучал шашкою по доске… Игра была не кончена, стаканы опрокинуты, и владетель замка Эвальд фон Нордек ходил быстрыми шагами по зале. По неровному звуку его шпор, по волнению в груди заметно было, что он вне себя; его лицо пылало гневом, и кровавые глаза разбежались.
– Да, да, – вскричал он, остановившись против Мея, – теперь вижу, что был до сих пор слепцом, был игрушкою жены своей. И я был так прост, что доверился этому русскому варвару, оставил волка в овчарне. Теперь не дивлюсь, что жена моя… что Эмма, хотел я сказать, так нежно ухаживала за его ранами, так жаловала его песни и разговоры. Теперь понятно мне, отчего шепчут рыцари, когда я вхожу в их общество, отчего дамы так часто спрашивают об ее здоровье. Лицемерная, неблагодарная женщина! Не я ли презрел для нее все обычаи предков и все толки дворян – извел ее из пыли ничтожества и из безродной сироты сделал владетельницей Нейгаузена; но что более всего: не я ли любил ее так нежно, так пламенно! О, какое яркое пятно положила ты на славное имя Нордеков! Что сказал бы теперь дед мой, гермейстер Ордена, если бы такие обиды могли воскрешать мертвых, как они умерщвляют живых!
– Думаю, – сказал Мей двусмысленным голосом и пожимая плечами, – он сказал бы то же самое, что и я повторяю: что люди завистливы и, статься может, слухи об этой связи – пустые.
– Нет, друг Ромуальд, не утешай меня, как ребенка; я знаю, что подобные вести позже всех доходят до ушей мужа, и, верно, уже они имеют вес, когда ты, чужеземец, их знаешь…
Ромуальд встал, чтобы скрыть волнение души, и как будто нечаянно подошел к окну.
– Они еще не едут с охоты, – сказал он притворно равнодушным голосом.
– Не едут – и, поверь мне, еще долго не будут, – отвечал Эвальд нетвердым тоном презрительного бесстрастия. – Они не ждут меня из похода, а часы летят для них так скоро, что они и не думают о возврате… Или, – что я говорю, – может, они нарочно ждут вечера… Лес широк, тропинки излучисты… Мудрено ли заблудиться!
– Какие черные мысли, Эвальд; разве не могло, в самом деле, случиться, что их соколы разлетелись.
– Я скличу их завтра на тело Всеслава! – Едут, едут! – раздалось по замку.
Топот коней и восклицания охотников огласили окружность; оконницы, дребезжа, отозвались на звук вестового рога с башни, и сердце барона оледенело… Он бросился в широкие кресла и закрыл глаза рукою. Кто-то бежал по лестнице, дверь скрыпнула, Эвальд вскочил; яростным взором встретил он входящего, – и напрасно: это был паж баронессы.
– Скажи госпоже твоей, – крикнул он, – чтобы она дожидалась меня в своих покоях, но чтобы она не входила сюда… Это моя воля, мое приказание; слышишь ли: мое приказание!
Изумленный паж удалился с трепетом, – и опять мертвая тишина в зале. Ромуальд молчал; Нордек не мог говорить. Наконец с шумом вбежал Всеслав в комнату. На нем был красный кафтан, на полах вышитый золотом. За кушаком татарский кинжал, на руке шелковая плетка, и красные каблуки его сапогов пестрели разноцветною строчкою; яхонтовая запонка и жемчужная пронизь на косом воротнике доказывали, что Всеслав не простого происхождения; но смелая, развязная поступи, открытое лицо и быстрые взоры еще более заверяли в его благородстве. С радостным челом, с дружеским приветом кинулся он обнять Эвальда, но Эвальд яростно оттолкнул его.
– Прочь, изменник! – воскликнул он. – Прочь! Не пятнай меня своим иудиным лобзаньем…
– Что это значит, Эвальд? – произнес Всеслав, пораженный видом и выраженьем барона.
– Ты слишком хорошо знаешь, об чем говорю я; но притворство ни к чему не послужит… Признайся!
– Ты потерял рассудок, Эвальд!
– О, как бы желал я потерять его, но к несчастию, он теперь яснее, нежели когда-нибудь. Я теперь вижу, чем ты заплатил за мое гостеприимство, как ты отвечал на мою доверенность. Я с тобой, со врагом, поступил как с братом, а ты обольститель, ты с другом поступил будто со злейшим неприятелем.

«– Куда прикажете? – спросил мой Иван, приподняв левой рукою трехугольную шляпу, а правой завертывая ручку наемной кареты.– К генеральше S.! – сказал я рассеянно.– Пошел на Морскую! – крикнул он извозчику, хватски забегая к запяткам. Колеса грянули, и между тем как утлая карета мчалась вперед, мысли мои полетели к минувшему…».

«– Вот Эльбрус, – сказал мне казак-извозчик, указывая плетью налево, когда приближался я к Кисловодску; и в самом деле, Кавказ, дотоле задернутый завесою туманов, открылся передо мною во всей дикой красоте, в грозном своем величии.Сначала трудно было распознать снега его с грядою белых облаков, на нем лежащих; но вдруг дунул ветер – тучи сдвинулись, склубились и полетели, расторгаясь о зубчатые верхи…».

В книгу русского писателя-декабриста Александра Бестужева (Марлинского) (1797–1837) включены повести и рассказы, среди которых «Ночь на корабле», «Роман в семи письмах», «Наезды» и др. Эти произведения насыщены романтическими легендами, яркими подробностями быта, кавказской экзотикой.

«Вдали изредка слышались выстрелы артиллерии, преследовавшей на левом фланге опрокинутого неприятеля, и вечернее небо вспыхивало от них зарницей. Необозримые огни, как звезды, зажглись по полю, и клики солдат, фуражиров, скрып колес, ржание коней одушевляли дымную картину военного стана... Вытянув цепь и приказав кормить лошадей через одну, офицеры расположились вкруг огонька пить чай...».

В книге представлены произведения А. Н. Радищева, Н. М. Карамзина, А. А. Бестужева-Марлинского, В. И. Даля, К. М. Станюковича, И. А. Бунина и других русских писателей XVIII — начала XX века, отразивших в художественной форме историю превращения России в морскую державу.

«Была джума, близ Буйнаков, обширного селения в Северном Дагестане, татарская молодежь съехалась на скачку и джигитовку, то есть на ристанье, со всеми опытами удальства. Буйнаки лежат в два уступа на крутом обрыве горы. Влево от дороги, ведущей из Дербента к Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, оперенный лесом; вправо берег, понижаясь неприметно, раскидывается лугом, на который плещет вечно ропотное, как само человечество, Каспийское море. Вешний день клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью воздуха еще более, чем любопытством, покидали сакли свои и толпами собирались по обеим сторонам дороги…».
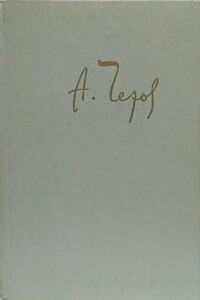
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».