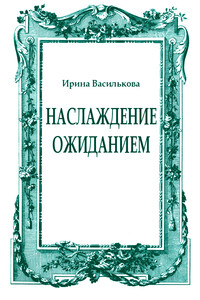Заметки о русской литературе 1848 года - [5]
Нельзя кончить этого отступления, не упомянув еще о страсти к подробностям, на которой, собственно, и зиждутся все требования псевдореализма на основательность и значение. Мы видели из одного примера (описания сапогов), до чего может дойти это разложение вещей, этот анализ бесконечно малых, и могли бы привести множество других, в которых не оставлено ни малейшего сомнения в уме читателя, касательно цвета подошв у обуви, каждого гвоздя в стене и каждой посудины в комнате. Другое дело, определяет ли это насколько-нибудь личность самого владетеля вещей. Ответ известен заранее всякому, кто наблюдал процесс, которому следуют великие таланты, когда раз осматривают человека в его внешней обстановке. Не все целиком берут они от последней, а только те ее части, которые проявили мысль человека и таким образом получили значение и право на заметку. Помимо этого коренного условия, чем более станете вы увеличивать списки принадлежностей, тем досаднее становится впечатление, и тут уже никакой юмор не поможет. Правда, что при основной бедности типов псевдореализма, подобные исследования способствуют размножению действующих лиц, которые начинают уже отличаться друг от друга чисто внешне, материально, например, цветом фраков, суконными или медными пуговицами на кафтане и проч., но так создавать лица уже чересчур легко. В повести «Темный человек» четыре или пять жильцов в квартире немки могут быть распознаемы единственно по покрою платья и по другим аксессуарам, весьма подробно переданным автором, потому что внутреннего различия между ними не существует. Все они – дети одного отца и списаны друг с друга: писатель ничего не потратил на создание.
В заключение мы осмеливаемся предложить несколько беглых вопросов, пожалуй, хоть самим себе. Насколько может быть интересно апатическое лицо, не находящее в себе никаких сил для выхода из стесненного положения? заслуживает ли оно той примерной любви, какую питают к нему некоторые писатели? не значит ли потворствовать крайнему нравственному бессилию беспрестанным его осмотром, и какая польза может произойти от этого в эстетическом и всяком другом отношениях? Мы когда-нибудь вернемся к этим вопросам, а теперь переходим к г. Достоевскому-брату (М.М.).
Лучшая повесть г. Достоевского «Господин Светелкин» может служить образцом того насильственного и механического распространения сюжета, о котором было говорено. На семи печатных листах рассказывается в ней история девушки, воспитывавшейся в чужом доме и потерявшей непорочность свою в любви к молодому повесе, сыну своих лицемерных благодетелей. Когда потом добрый и слабый г. Светелкин присватывается к ней, когда благодетели всеми силами стараются устроить эту свадебку, чтобы сбыть с рук воспитанницу, девушка сопротивляется им, бежит из дому и открывает все дело жениху на его квартире. Тут, вместо ожидаемого презрения, она получает более чем прощение: она получает от Светелкина трогательную просьбу остаться бескорыстным другом ее, если уж он не может быть ее мужем. Наташа отдает ему свою руку. «Я слышал, что они очень счастливы», – лаконически прибавляет автор в заключение рассказа. Как в произведениях старшего (по появлению на литературном поприще) Достоевского, здесь есть зародыш повести, который никак не выходит к полной жизни, погибая преимущественно от недостатка в живительных лучах знания и наблюдения. Из краткого изложения нашего можно уже видеть, что тут опять встречается добрый и ничтожный человек – Светелкин, повеса Уховерткин-сын. На первого так много и неосторожно наговорено вздорного, что его прекрасный, истинно человеческий поступок кажется уже новым видом пошлости; по той же причине второй делается чем-то вроде аллегорического изображения нелепости и перестает быть лицом. Все семейство Уховерткиных, видимо, придумано в тиши кабинета, и члены его страх как походят на тщательно обделанные игрушки. Умалчиваем о способе распространения повести, об описании квартир, о разговоре героя с кухаркой, кухарки с гостями и т. п.; умалчиваем о юмористических странностях вроде следующих: «Мантилья поспешила сама собою, без посторонней помощи, взъерзнуть на Наташины плечи», или г. Пташкин «торопливо разрезывал всей своей особой несчастную бекешь с отличным, впрочем, бобром»; умалчиваем также о фантастических картинах наподобие той, которая представлена, когда г. Светелкин, открывший истину, убегает с девичника: «Казалось, все мысли, какие только были у него, даже самые органы, на которых зарождались эти мысли, вышли из его телесного состава и стали неподалеку от него, посылая ему, от времени до времени, какую-нибудь разрозненную мысль, половину, четверть мысли». Все это может наскучить читателю, несмотря на прелесть этих мыслей, посылающих четверть мысли и доказывающих, как недостатки оригинала вырастают до чудовищного у подражателей; но мы обязаны сказать несколько слов о самой героине – о Наташе.
Лицо русской женщины или девушки есть камень преткновения для писателя, живущего только с самим собою. Место этого лица до сих пор остается праздным в нашей литературе, несмотря на несколько старых удачных попыток гг. Лермонтова, Нестроева и новых г. Дружинина. О Пушкине не говорим: он всегда у нас исключение, да и был бы недосягаемым исключением, где бы ни появился. Отсутствие женского лица в нашей изящной словесности сообщает ей тот резкий, холодный характер, который многих поражает. Всякий согласится, что нельзя же назвать женщинами и живыми существами произвольные фигуры, выставляемые нашими авторами. Только герои самих рассказов могут впадать в такую грубую ошибку, но читатель, слава Богу, избавлен от этой необходимости. Есть множество весьма
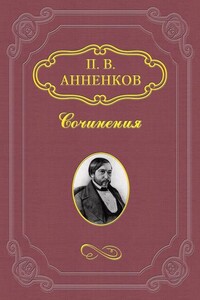
«…внешний биографический материал хотя и занял в «Материалах» свое, надлежащее место, но не стал для автора важнейшим. На первое место в общей картине, нарисованной биографом, выдвинулась внутренняя творческая биография Пушкина, воссоздание динамики его творческого процесса, путь развития и углубления его исторической и художественной мысли, картина постоянного, сложного взаимодействия между мыслью Пушкина и окружающей действительностью. Пушкин предстал в изображении Анненкова как художник-мыслитель, вся внутренняя жизнь и творческая работа которого были неотделимы от реальной жизни и событий его времени…».
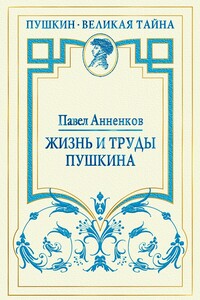
Биография А. С. Пушкина, созданная Павлом Васильевичем Анненковым (1813–1887), до сих пор считается лучшей, непревзойденной работой в пушкинистике. Встречаясь с друзьями и современниками поэта, по крупицам собирая бесценные сведения и документы, Анненков беззаветно трудился несколько лет. Этот труд принес П. В. Анненкову почетное звание первого пушкиниста России, а вышедшая из-под его пера биография и сегодня влияет, прямо или косвенно, на положение дел в науке о Пушкине. Без лукавства и домысливания, без помпезности и прикрас биограф воссоздал портрет одного из величайших деятелей русской культуры.
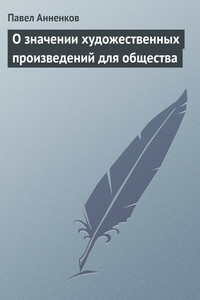
«Несмотря на разнообразие требований и стремлений нашей современной критики изящного, можно, кажется, усмотреть два основные начала в ее оценке текущих произведений словесности. Начала эти и прежде составляли предмет деятельной полемики между литераторами, а в последние пять лет они обратились почти в единственный сериозный вопрос, возникавший от времени до времени на шумном поле так называемых обозрений, заметок, журналистики. Начала, о которых говорим, по существу своему еще так важны в отношении к отечественной литературе, еще так исполнены жизни и значения для нее, что там только и являлось дельное слово, где они были затронуты, там только и пропадали личные страсти и легкая работа присяжного браковщика литературы, где они выступали на первый план…».

«Н. Щедрин известен в литературе нашей, как писатель-беллетрист, посвятивший себя преимущественно объяснению явлений и вопросов общественного быта. Все помнят его дебюты в литературе: он открыл тогда особенный род деловой беллетристики, который сам же и довел потом до последней степени возможного ему совершенства. Его «Губернские очерки» доставили пресловутой Крутогорской губернии и городу Крутогорску такую же почетную известность, какой пользуются другие географические местности империи, существующие на картах…».

Русский литературный критик, публицист, мемуарист. Первый пушкинист в литературоведении. Друг В. Белинского, знакомый К. Маркса, Бакунина, многих русских писателей (Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. И. Герцена и других).
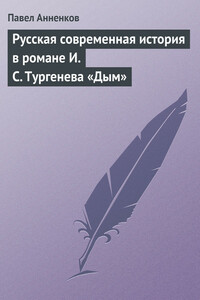
«И.С. Тургенев не изменил своему литературному призванию и в новом произведении, о котором собираемся говорить. Как прежде в «Рудине», «Дворянском гнезде», «Отцах и детях», так и ныне он выводит перед нами явления и характеры из современной русской жизни, важные не по одному своему психическому или поэтическому значению, но вместе и потому, что они помогают распознать место, где в данную минуту обретается наше общество…».

НОВАЯ КНИГА знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника издательского дома «Коммерсантъ», удостоенного всех возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом. «Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони – эти и многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет для себя на страницах этой книги.

Что происходит с современной русской литературой? Почему вокруг неё ведётся столько споров? И почему «лучшие российские писатели» оказываются порой малограмотными? Кому и за что вручают литературные премии? Почему современная литература всё чаще напоминает шоу-бизнес и почему невозможна государственная поддержка писателей, как это было в СССР? Книга отвечает на множество злободневных вопросов и приоткрывает завесу над современным литературным процессом.Во второй главе представлены авторские заметки о великих русских писателях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.