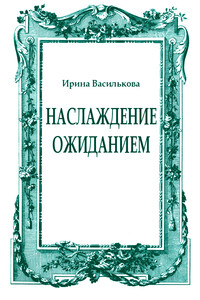Заметки о русской литературе 1848 года - [2]
«– Знаешь что? ты взволнован, ты много не наработаешь… Постой, постой, постой – вижу, вижу – слушай! – заговорил Нефедевич, вскочив в восторге с постели и прерывая заговорившего Васю, всеми силами отстраняя возражения: – Прежде всего нужно успокоиться, нужно с духом собраться: так ли?
– Аркаша! Аркаша! – закричал Вася, вскочив с кресел. – Я просижу здесь всю ночь, ей-Богу, просижу!
– Ну да, да! ты к утру только заснешь…
– Не засну, ни за что не засну…
– Нет, нельзя, нельзя; конечно, заснешь, в пять часов засни» и т. д.
И вот как говорит автор от себя, по случаю покупки Васей чепчика для своей невесты: «Ах, Боже мой, да где же вы найдете чепчик лучше? Это уж из рук вон! Где же вы сыщете лучше! Я говорю серьезно! Меня наконец даже приводит в некоторое негодование, даже огорчает немного такая неблагодарность влюбленных. Ну, смотрите сами, господа, посмотрите: что может быть лучше этого амурчика-чепчика. Ну, взгляните!» и т. д. Предоставляем судить каждому, как это все верно природе, и походит ли на наивность и добродушие, за которыми автор видимо гнался.
Из рассказов г. Достоевского пропускаем «Отставной», как совершенно незначащий, и остановимся на втором: «Честный вор». Нам кажется, если мы не ошибаемся, что оба эти рассказа порождены успехом «Записок охотника» г. Тургенева. Лукавая простота и тонкая наблюдательность последних, видимо, соблазнили г. Достоевского, который дал своим рассказам одно общее заглавие, именно: «Рассказы бывалого человека». Тут предстояла опасность, что читатели спросят: да не сидит ли этот бывалый человек постоянно где-нибудь за письменным столиком в Петербурге? Вероятно, в предчувствии подобного вопроса со стороны своих читателей, автор прибавил к заглавию в скобках: «Из записок неизвестного», – но внизу однако ж подписал большими буквами свое имя. Мы находимся теперь в недоумении: кому же собственно принадлежат рассказы? Г-ну Достоевскому или неизвестному, которого он сделал только издателем. Все эти маленькие хитрости, отзывающиеся наивной претензией, нисколько не мешают достоинству рассказов, если есть достоинство. Во втором из них – «Честный вор» – нам еще показывалось, что в глазах автора стояли неподражаемые повести иностранного романиста, написавшего «La mare au diable» и «Francois-le-Champi». Простота содержания, взятого из народного быта, старание открыть те светлые стороны души, которые человек сохраняет на всяком месте и даже в сфере порока, как завлечен собственной виной или обстоятельствами, наконец, мысль заставить говорить человека недальнего, но которому превосходное сердце заменяет ум и образование, все это очень близко намекает на родство русского рассказа с иностранными, приведенными выше. Мы должны быть благодарны автору за подобную попытку восстановления (rehabilitation) человеческой природы, если бы даже не было нескольких мест в его повести действительно прекрасных, как, например, то, где представлена картина немого страдания бедного пьянчужки Емели после совершенной им покражи рейтуз у своего благодетеля портного, но тут мы и остановимся. Самому портному, рассказывающему этот случай, мы должны отказать в нашем сочувствии. Он более подходит на ритора, чем на простодушного рассказчика, и за ним беспрестанно выглядывает сам автор, употребляющий его инструментом для совершения чего-то вроде повествовательного tour-de-force[1].
Да, рассказ портного, – как поднял он в каком-то кабачке бедного Емелю, зашибенного винцом, призрел его, – неверен и мало трогает нас. В нем недостает главного: нравственного достоинства, так необходимого человеку, который повествует о собственном великодушии. Портной беспрестанно кокетничает добротой своего сердца, а между тем он не так добр, как с первого разу кажется. Посудите сами. Он говорит, например: «Обрадовался я возвращению Емели (сбежавшего с квартиры от стыда после покражи рейтуз), да пуще прежнего тоска к моей душе припаялась. Оно вот как, сударь, выходит: случилось, то есть, надо мной такой грех человеческий, так я, право слово, говорю: скорей как собака издох бы, а не пришел. А Емеля пришел! Ну, натурально, тяжело человека в таком положении видеть» и проч. Эта фальшивая нота обличает в портном человека развитого, да и притом еще дурно развитого. Старания портного возвратить Емелю на путь истины, оставшиеся не только безуспешными, но подвигнувшие Емелю еще на воровство, высказаны кудряво, но задушевного голоса в них не слышится. Читатель постоянно занят не рассказчиком, а манерой автора, его приемами, его условным стилем, которые действительно, в ущерб внутреннему содержанию повести, беспрестанно напрашиваются на ваше внимание, на оценку вашу. Гораздо лучше высказаны очистительные страдания бедного Емели, когда, попостившись денек, другой, он крадет рейтузы у своего учителя и пропивает их. С тех пор грызущая совесть не дает покоя Емеле, и этот человек – этот пьяница! – умирает от сознания своей вины и раскаяния. Но и здесь опять досадный портной все дело портит. Как неодолимое препятствие, стоит он в среде рассказа, словно нарочно для того, чтобы форма повести не могла никак прийти в равновесие с содержанием. Вот, например, чем заключает он повествование о смерти Емели: «Так вот, сударь, это я вам для того теперь рассказал и
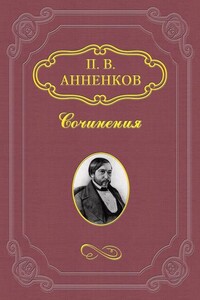
«…внешний биографический материал хотя и занял в «Материалах» свое, надлежащее место, но не стал для автора важнейшим. На первое место в общей картине, нарисованной биографом, выдвинулась внутренняя творческая биография Пушкина, воссоздание динамики его творческого процесса, путь развития и углубления его исторической и художественной мысли, картина постоянного, сложного взаимодействия между мыслью Пушкина и окружающей действительностью. Пушкин предстал в изображении Анненкова как художник-мыслитель, вся внутренняя жизнь и творческая работа которого были неотделимы от реальной жизни и событий его времени…».
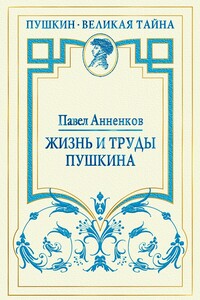
Биография А. С. Пушкина, созданная Павлом Васильевичем Анненковым (1813–1887), до сих пор считается лучшей, непревзойденной работой в пушкинистике. Встречаясь с друзьями и современниками поэта, по крупицам собирая бесценные сведения и документы, Анненков беззаветно трудился несколько лет. Этот труд принес П. В. Анненкову почетное звание первого пушкиниста России, а вышедшая из-под его пера биография и сегодня влияет, прямо или косвенно, на положение дел в науке о Пушкине. Без лукавства и домысливания, без помпезности и прикрас биограф воссоздал портрет одного из величайших деятелей русской культуры.
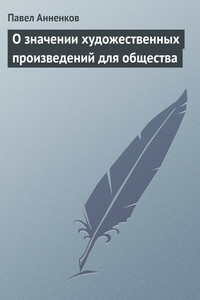
«Несмотря на разнообразие требований и стремлений нашей современной критики изящного, можно, кажется, усмотреть два основные начала в ее оценке текущих произведений словесности. Начала эти и прежде составляли предмет деятельной полемики между литераторами, а в последние пять лет они обратились почти в единственный сериозный вопрос, возникавший от времени до времени на шумном поле так называемых обозрений, заметок, журналистики. Начала, о которых говорим, по существу своему еще так важны в отношении к отечественной литературе, еще так исполнены жизни и значения для нее, что там только и являлось дельное слово, где они были затронуты, там только и пропадали личные страсти и легкая работа присяжного браковщика литературы, где они выступали на первый план…».

«Н. Щедрин известен в литературе нашей, как писатель-беллетрист, посвятивший себя преимущественно объяснению явлений и вопросов общественного быта. Все помнят его дебюты в литературе: он открыл тогда особенный род деловой беллетристики, который сам же и довел потом до последней степени возможного ему совершенства. Его «Губернские очерки» доставили пресловутой Крутогорской губернии и городу Крутогорску такую же почетную известность, какой пользуются другие географические местности империи, существующие на картах…».

Русский литературный критик, публицист, мемуарист. Первый пушкинист в литературоведении. Друг В. Белинского, знакомый К. Маркса, Бакунина, многих русских писателей (Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. И. Герцена и других).
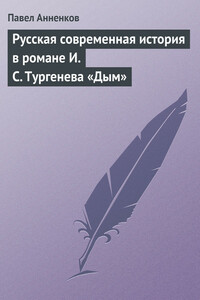
«И.С. Тургенев не изменил своему литературному призванию и в новом произведении, о котором собираемся говорить. Как прежде в «Рудине», «Дворянском гнезде», «Отцах и детях», так и ныне он выводит перед нами явления и характеры из современной русской жизни, важные не по одному своему психическому или поэтическому значению, но вместе и потому, что они помогают распознать место, где в данную минуту обретается наше общество…».

НОВАЯ КНИГА знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника издательского дома «Коммерсантъ», удостоенного всех возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом. «Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони – эти и многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет для себя на страницах этой книги.

Что происходит с современной русской литературой? Почему вокруг неё ведётся столько споров? И почему «лучшие российские писатели» оказываются порой малограмотными? Кому и за что вручают литературные премии? Почему современная литература всё чаще напоминает шоу-бизнес и почему невозможна государственная поддержка писателей, как это было в СССР? Книга отвечает на множество злободневных вопросов и приоткрывает завесу над современным литературным процессом.Во второй главе представлены авторские заметки о великих русских писателях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предлагаем читателям первый обзор из серии «Кинопробы космической экспансии», посвященной истории «освоения» кинофантастикой Солнечной системы. Известный популяризатор истории космонавтики и писатель-фантаст Антон Первушин в трех статьях расскажет о взглядах кинематографистов на грядущее покорение Луны, Марса и Венеры. В первом обзоре автор поглядывает на естественный спутник Земли. О соседних планетах — читайте в ближайших номерах журнала. Из журнала «Если», 2006, №№ 7, 8, 10; 2007, № 5.