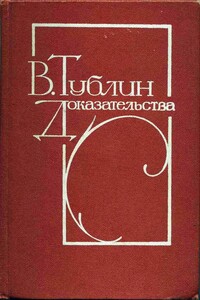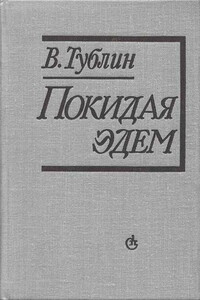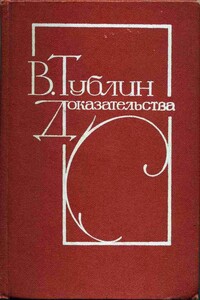Заключительный период - [27]
Тонкие пальцы главного специалиста быстрым сухим движением касались бумаги, изучали ее, поворачивали, разглаживали… затем опускалось автоматическое перо; сточенные от долгого употребления края, чуть царапая бумажную глянцевитость, вычеркивали все лишнее решительным взмахом; от длинных колонок цифр оставались только прочерки, похожие на шрамы. Затем жирная черта — и итог. Легкий сладковато-терпкий запах никотина исходил от этих быстрых беспощадных рук; кожа у самых кончиков пальцев была темно-коричневого цвета. Чуть-чуть дальше она была просто коричневой, а еще дальше, до первого сустава, — коричневато-желтой, как скорлупа недозрелого ореха.
Главный специалист по сметам сидел у самой стены, лицом в большой зал, — так он мог видеть всех. От двери его отделял старый поцарапанный и скрипучий шкаф, приткнутый торцовой частью к стене. Шкаф и большой двухтумбовый стол образовывали закут, скорее похожий на гнездо, хотя возможно, что впечатление гнезда возникало из-за самого главного специалиста. Он сидел за своим большим столом — маленький, нахохленный, худой. Плотный синий дым окутывал его, как пух, и дымный этот пух, бледнея и расплываясь, поднимался вверх, к потолку, и растерянно плавал там поверх склоненных голов под неумолчный бумажный прибой.
Главный специалист работал, как машина, не испытывающая усталости и не нуждающаяся в отдыхе. За окнами пробивалась первая трава, летом расцветали белые и красные розы. Потом приходила осень. По кустам и облетающим деревьям скользили холодные густые тени. Небо хмурилось, набухало, затем длинные струи дождя бились о стекла, искажая отражения предметов и лиц. И вот уже падал снег, такой обманчиво милосердный, и ветер сметал сугробы с подоконников — но никто не мог бы сказать с уверенностью, замечает все это главный специалист или нет. В холод и жару, в дождь и ветер все так же автоматически брал он стопки бумаг, читал, отмечал красным или синим карандашом, вычеркивал, дописывал… Казалось, ему нет никакого дела до перемен, происходящих в природе, да и вообще до любых перемен. Во все времена года он был одинаково слишком требователен, слишком работящ и молчалив — качества, не подходящие для установления каких-либо иных, кроме самых официальных, отношений. Изо дня в день он появлялся в дверях за пять минут до начала рабочего дня и уходил после окончания работы через десять — сама чистота, аккуратность, прилежание, опыт, воплощенный в старческом бесстрастии или в старческом отсутствии страстей.
В обеденный перерыв он быстро съедал свой завтрак, затем стоял у окна, маленький, молчаливый, с лицом сухим и неприветливым. Какой у него был при этом взгляд — не знал никто. Так он стоял и смотрел, и горб за его спиной торчал, как перебитое крыло.
Думал ли он в это время? И о чем?
Может быть, он и в свободное время думал о бумагах?.. О тысячах и тысячах бумаг, проходивших через его руки, и о том, что́ затем должно было возникнуть из этих бумаг, — о домах, дорогах, колодцах?..
А может быть, он вообще ни о чем не думал?
Этого не знал никто.
Но он-то знал, и каждый раз, стоя одиноко среди расплывающегося голубого дыма, он думал о том, что скоро, вот еще через несколько часов, наступит освобождение…
Освобождение от бумаг.
Он никогда не любил их. Он не любил их с самого начала, все тридцать лет службы, и чем дальше, тем больше. Так уж получилось, и так пошло все дальше и дальше, и он стал главным специалистом, но чувства его не менялись — неприязнь перешла в нелюбовь, нелюбовь — в ненависть. Он рос, мужал и старел под шелест бумажных крыльев — и состарился, так ничего и не увидев. Иногда ему начинало казаться, что вся его жизнь — лишь сон, мираж или какая-то запутанная и жестокая в своей бессмысленности игра, и он уже не мог заставить себя поверить, будто бумаги, поскрипывавшие в его желтых с коричневым пальцах, и в самом деле связаны с чем-то реальным — домами, дорогами, колодцами…
И тогда ему хотелось проснуться. И уже много раз он видел по ночам чудесный сон. Как однажды весной он приходит к себе на работу. Но не натягивает, как обычно, черные нарукавники, не открывает взвизгивающий шкаф, не достает оттуда, как вот уже тридцать лет, затрепанные справочники и таблицы. Нет, не спеша собирает он со стола все бумаги, запирает их в самый нижний ящик, ключ в карман, и идет к реке, на мост; не торопясь достает ключ и плавным, широким движением бросает ключ в реку. Всплеск… круги… все шире и шире… И — тишина.
И тогда он идет на стадион…
Тут сон обыкновенно кончался. Ведь этого не могло быть, никогда, ни при каких обстоятельствах — ключ, плавное движение руки, круги, все шире и шире расходящиеся по воде. Даже во сне он с острой отчетливостью сознавал непреложность того факта, что ничего этого не может быть. Тогда он просыпался, лежал в темноте. Облизывал пересохшие губы, чувствовал горечь и долгое время не мог понять, откуда она, пока однажды не понял, что это — горечь поражения.
Оставался стадион.
Каждый день он ходил на стадион, летом и зимой. Он специально выбрал самый отдаленный стадион, где его никто не мог встретить, трамвай долго вез его, словно увозил в другую жизнь, колесил, все сворачивал и, сворачивал и так, все сворачивая, добирался наконец до широкой реки. Здесь он обычно выходил.

Небольшая деликатно написанная повесть о душевных метаниях подростков, и все это на фоне мифов Древней Греции и первой любви.

В эту книгу вошли шесть повестей, написанных в разное время. «Испанский триумф», «Дорога на Чанъань» и «Некоторые происшествия середины жерминаля» составляют цельный цикл исторических повестей, объединенных мыслью об ответственности человека перед народом. Эта же мысль является основной и в современных повестях, составляющих большую часть книги («Доказательства», «Золотые яблоки Гесперид», «Покидая Элем»). В этих повестях история переплетается с сегодняшним днем, еще раз подтверждая нерасторжимое единство прошлого с настоящим.Компиляция сборника Тублин Валентин.
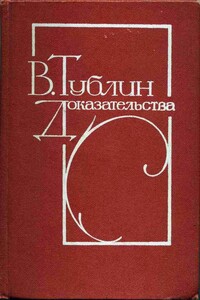
Цезарь разбил последних помпеянцев в Испании. Он на вершине успеха. Но заговорщики уже точат кинжалы…

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.