Забытые - [2]
— У, дьявол! — злобно погрозив кулаком на то место, где лежал Иван Захарыч, воскликнула жена и опять продолжала, обращаясь к невидимому слушателю. — Час прошел, и другой прошел, — нету! «Ну, — думаю себе, — задержали, не сразу отдадут, то да се». Жду… третий прошел, нету! Обед время, — нету! Полезла в угольник за чем-то… хвать — пузырька-то с политурой и нету… Я туды, я сюды… пропал. Тут меня и осенило!..
Она помолчала, повозилась на кровати и опять продолжала:
— Тут уж поняла я: завыли теперича денежки! Что получит за работу, прожрет на винище. Так и вышло… так и вышло по-моему… Дело к вечеру, а его все нету… «Гришка, — говорю, — сбегай в трактир к Конычу, погляди — не там ли отец?..» Прибегает назад… «Ну, что, там?..» — «Там». — «Пьяный?» — «Пьяный, распьяный!.. Стоит, гыт, у стола посередь трактира, кричит про Думу что-то… Домой звал я его, не идет… Ступай сама»…
Она опять помолчала и потом заговорила, обращаясь уже прямо к Ивану Захарычу, который попрежнему притворялся спящим и повторял про себя шопотом одно слово:
— Стерва!
— Дьявол ты косматый, пьянчуга! Тебе ли уж про Думу говорить… думщик какой, подумаешь, а? Надоел, проклятый!.. Дума, Дума! Для нас она с тобой, что ли, а! Про нас и думать-то позабыли… кому мы нужны… а он с Думой… Твоя Дума вон лежит… Думай, как кормить… Чего молчишь-то, дьявол, арапа-то корчишь, а?
— Хима! — делая вид, что только что проснулся, необыкновенно кротким и нежным голосом заговорил Иван Захарыч, — ты это меня, что ли, спрашиваешь?
— Что-о-о? — злобным шопотом, тараща глаза, спросила жена: — Какая я тебе Хима?.. Ах ты, косматый чорт… пьянчуга… Я-те такую Химу дам!..
— Стерва! — шепчет Иван Захарыч и опять так же кротко и нежно, с дрожью в голосе, говорит: — Что это ты?.. За что?..
— За что? — злобно передразнивает его жена. — За что?.. Где деньги, а? Где? Прожрал! А дети не емши…
— Хима! — приподнимаясь и садясь на полу, говорит Иван Захарыч, прижимая левую руку к тому месту, где у него сердце. — Хима… истинный господь один полтинник… один разъединый полтинник только всего и дали… «После, — говорят, — приходи, а теперь денег нет»… Один полтинник!.. Затащили меня в трактир; я было упирался, не хотел… Все писарь, Сысой Петров, дери его чорт!.. Не отвяжешься, хоть ты что хошь! Ну, я и того…
— Вре-е-е-шь!.. Все пропил…
— Хима…
— Вре-е-е-шь! Это вы все на один полтинник налопались, а?.. Ты деньгами-то швырялся… вон Гришка-то, он видел… Что ты там орал?.. Чего тебе Дума-то далась, а?.. Ты бы, мошенник, про жену с детьми думал, а не про Думу… Надоел всем, смеяться стали… Вон намедни сапожник Платоныч говорит: «Что, гыт, твоего в епутаты не избрали еще?» Профессор какой, подумаешь!
— Хима, ты не понимаешь… Обидно, обидно, Хима! Что же это такое значит, почему наше сословье мещанское позабыли?.. Про всех говорят, всем облегченье хотят сделать, а нам ни фига, а? А у меня тоже дети. Что же мы не люди, что ли?.. Обидно! Вот я про что… Прав я своих ищу… Человек я или как по-твоему?
Жена молчит, потом вдруг принимается плакать… Ее плач похож на лай старой, охрипшей собаки… От этого плача в комнатке делается как-то сразу еще печальнее и страшнее… Все предметы, находящиеся в ней, — старый на боку комод, шкафчик с посудой, табуретка, стол, маленькие, глядящие в тьму, оконца, верстак, висящие на стене часишки, бойко выговаривающие «плохо, плохо! плохо, плохо!» — подвешенное для просушки под потолком на веревке белье, ведра в углу, печка, ухваты, покрытый дерюгой сундук, — все это стоит и лежит, как будто ожидая одного: «дайте поесть»…
— Я-то жду, я-то жду! — начинает снова, не переставая плакать, жена, — все сердце изорвалось, а он на-ка, и думать-то забыл… Тятя детям тоже… Как, дескать, они там, вспомнил бы!..
Она спускается с кровати и в короткой, почти по колено, рубашке, высокая и худая, идет, твердо ступая по полу, голыми, без икр, похожими на палки, ногами к «святым иконам» оправить фитиль в погасающей лампадке.
Иван Захарыч глядит на нее, на ее тонкие, голые, палкообразные ноги, на ее испитое, желтое, освещенное трепетным светом лампадки лицо, на длинный, с горбинкой, нос, на черные большие зубы, на отвислую, как у старого мерина, нижнюю губу и, стараясь быть ласковым, говорит:
— Хима… ты бы того, умыла руки-то… Неловко прямо с постели да за святыню…
— А что ж у меня руки-то поганые, что ли?..
— Все-таки… сполоснула бы…
— Рыло свое ополаскивай! — злобно говорит она. — Пьянчуга! Шесть часов, а он лежит, развалился, как барин… Корова вон орет… жрать просит… Мне, что ли, итти давать-то ей… лодырь!..
— Темно еще на улице-то, Хима, — говорит Иван Захарыч. — Я бы давно встал, да думаю себе: керосин жечь жалко… он ведь пять копеечек фунтик… н-да-с!..
— Ах ты, еканом! — восклицает жена: — съеканомил домок в ореховую скорлупку… На водку рубли летят, не жалко, а тут, вишь, на керосине нагоняет… Вставай, чего на дороге-то валяешься, как падаль… Протушил, небось, всю комнату.
Иван Захарыч молча встает и идет к ведрам пить воду. Он пьет долго и жадно, так как «нутро» у него горит, во рту пересохло, и весь он точно какой-то расслабленный, больной, которого от слабости кидает по сторонам.
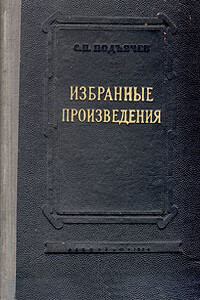
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

ПОДЪЯЧЕВ Семен Павлович [1865–1934] — писатель. Р. в бедной крестьянской семье. Как и многие другие писатели бедноты, прошел суровую школу жизни: переменил множество профессий — от чернорабочего до человека «интеллигентного» труда (см. его автобиографическую повесть «Моя жизнь»). Член ВКП(б) с 1918. После Октября был заведующим Отделом народного образования, детским домом, библиотекой, был секретарем партячейки (в родном селе Обольянове-Никольском Московской губернии).Первый рассказ П. «Осечка» появился в 1888 в журн.
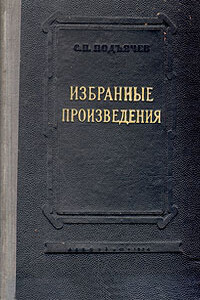
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести „Мытарства“, „К тихому пристанищу“, рассказы „Разлад“, „Зло“, „Карьера Захара Федоровича Дрыкалина“, „Новые полсапожки“, „Понял“, „Письмо“.Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
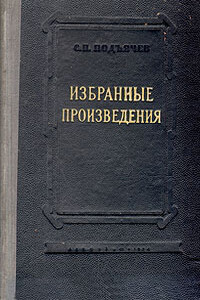
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
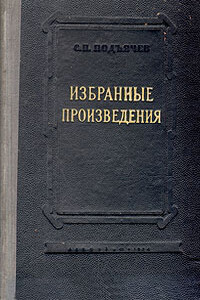
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
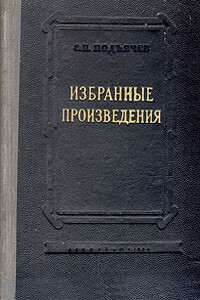
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.