Забыть и вспомнить - [24]
И тут случилось то, что навсегда врезалось в мою память неблекнущей картиной.
Когда-то про это эпизод я рассказал Глебу Панфилову, только начинавшему карьеру кинорежиссёра, - какое-то время мы работали на одной телестудии. Может быть, поэтому воспоминание распадается у меня на кинокадры. Вот Додька склонился над камушками. Вот я, сидящий на перилах и беззаботно болтающий ногами. Напротив, возле окошка кассы, Белкин. А вот возникают, совсем, как видение из прошлой жизни, в тени зелени, две стройные фигуры. Гладкие, красивые лица. Женщина, с лицом русской царевны из киносказки, и мужчина – похожий на нынешнего премьера Касьянова, в дорогом, хорошо сшитом костюме, лицо холёное, безмятежное, симпатичное. Наверное, здешние жители. Они так непохожи на усталых, затравленных беженцев вокруг. У мужчины в руке кулёк с виноградом. Неужто в жизни ещё есть виноград? И люди, которые вот так, просто, могут нести его в открытом кульке? Никому и в голову не придёт применить к себе эту картину из безвозвратного прошлого. Но Белкину, этому совсем нестарому еврейскому старику, приходит. Белкин поднимает глаза и спрашивает, наверное, просто так, по еврейской привычке спрашивать без особой надобности: - «Скажите, а где вы покупали этот виноград?». Мужчина на долю секунды замедляет шаг, лицо его темнеет, и изо рта его, такого красивого, выскакивают чёрные жабы: «Ах, ты, жидовская морда! Тебе ещё и виноград нужен, пархатый жид, недобиток!». Мужчина удаляется, продолжая жидофобствовать сладострастно и грязно… Белкин смотрит ему вслед и философски, почти миролюбиво, замечает: «Чем так долго ругаться, проще было сказать, где…» Пара уже не слышит его, удаляясь. А Белкин… Белкин опирается снова на ладонь, и в следующую секунду я вижу, как он заваливается головой вперед, вытягивается, и его тело мешком сползает по бетонному откосу в канаву. Двое или трое из очереди у кассы бросаются к нему… Но даже я понимаю: это Смерть. Я вижу первый раз это страшное. Я хочу сглотнуть, но не могу, слюны нет, в горле судорога, а язык – обрывок наждака во рту и не могу распечатать губы… Бессознательно спрыгиваю с перил и мимо окаменевшего Додьки бегу. Бегу по бесконечным ступеням наверх, потом по доскам путепровода над бесконечными путями с мертвыми рядами эшелонов внизу. Бегу по мосту, по которому боялся дальше пяти метром ходить прежде, бегу в бесконечность, не зная, куда – к тётке Шифре, к жене Белкина, в точку эвакопункта, о котором не знаю, где он. Бегу по нескончаемому раскалённому переходу, наталкиваясь на людей… Где-то, на середине бега меня кто-то хватает за руку. Это Белка. Она смотрит на меня и понимает, что случилось что-то страшное…
Когда мы вернулись, Белкин уже лежал на грязной пыльной платформе. В изголовье его сидел на корточках Додька, и гладил ладошкой щёки отца. По лицу Додика текли слёзы. Я впервые увидел, что они похожи: тот же приплюснутый нос, те же припухлые губы… Белка убежала за врачом, уже бесполезным, жена Белкина села на землю возле мужа, и обхватила голову руками. А тётя Шифра, прижимая к бокам два огромных каравая отоваренного хлеба, ходила вокруг тела умершего и говорила, не переставая: «Снимите с него туфли, ему легче будет! Снимите с него туфли, ему легче будет! Снимите с него туфли, ему легче будет!…» Её не слышали…
Я живу в Негеве, жаркой знойной пустыне, упирающейся в Африку. В ту самую, о которой один герой Чехова, житель среднерусской полосы говорит, задумчиво глядя на карту: «А в Африке сейчас должно быть жара!…»
Этот климат не для белого человека, говорю я частенько. Не только потому, что мы белокожие. Но и потому, что мы из белых краев. Там, где мы выросли и прожили полвека, часто всё бело от снега. И холодно. И здешняя жаровня нам не по душе и привычке. Среди моих новых знакомых много выходцев из Средней Азии и из самого Баку. Им ничего. А мне не в кайф. Зато теперь я могу сравнить и сказать, - в Баку летом такая же невыносимая для северянина жара, как и в Негеве.
Мы идём по шпалам в сторону Баку. Солнце в зените, печёт безжалостно, в глазах плавает паутина. Одной рукой я сжимаю ладонь Додьки, за нами бредет тётя Шифра.
На поезд мы не успели. Другой будет через сутки. А, может, и не будет. Куда я веду своих спутников, не знаю. Адрес знал только Белкин, но он умер вместе с адресом.
«Этот крест… зачем он сломал на кладбище этот крест!»… Навсегда в меня внедрится мысль о роковой мистической связи между поступком и последствием. Вера в неведомое, Высшее, что знает нас, и посылает возмездие.
Это убеждение (а это убеждение) пришло с возрастом, но тогда я, далёк был от каких-то мыслей.
Жена и дочь Белкина остались хоронить покойного. А я спросил у прохожего, где Баку, - человек махнул рукой: «Иди по рельсе, и придёшь». Додька молчит, плачет и послушно тянется за мной. Тётя Шифра совсем растеряна. А я на автопилоте, как сказали бы умно теперь, но и это неправда, потому что я на грани отчаяния, и половина моих силенок уходит на то, чтобы не раскиснуть трусливо. Чтобы не броситься на шпалы и не завыть в панике…
* * *
Жестокая пустынная планета. Три фигурки, спотыкаясь, движутся между рельсами к спасительной цели. В голове пульсирует толчками цифра «пятьдесят». Пять-десят, пять-десят… как стук колёс… Оборачиваюсь, но это даже не мираж. И не галлюцинации, по этой единственной колее поезда не ходят… Какая она эта пристань номер пятьдесят? Дебаркадер в тени листвы и прохладного от близости моря берега? Мысль о воде напоминает, что не пили с утра. Жара высушила нас. Во рту вместо языка, наждак. Какой красивый лимонад был до войны! Я пил его несколько раз! Холодный, щиплющий, пенистый, жёлтые иголочки щекочут ноздри, пузырьки и счастливая прохлада струится в горло… Я хочу сглотнуть слюну, но она липнет клеем к сухому нёбу, её вообще нет, слюны… Но уже и пить не хочется, как и есть. Ужас, что я уже никогда не найду родителей, волнами охватывает меня, в глазах темнеет. Все мысли, – добраться до спасительного причала – пристани номер пятьдесят. Хочу только одного – увидеть мать и сказать, что случилось с нами на станции Баладжари…

В основу повести положены фронтовые письма и дневники Георгия Борисова и его товарищей, воспоминания его родных и друзей — Софьи Николаевны и Ивана Дмитриевича Борисовых, Анастасии Григорьевны Бородкиной. Использованы также материалы, приведенные в очерках Героя Советского Союза Вилиса Самсона «Партизанское движение в Северной Латвии в годы Великой Отечественной войны», Р. Блюма «Латышские партизаны в борьбе против немецких оккупантов», в очерке В. Куранова и М. Меньшикова «Шифр подразделения — „Морской“».
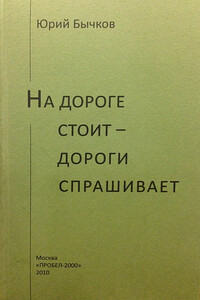
Как и в первой книге трилогии «Предназначение», авторская, личная интонация придаёт историческому по существу повествованию характер душевной исповеди. Эффект переноса читателя в описываемую эпоху разителен, впечатляющ – пятидесятые годы, неизвестные нынешнему поколению, становятся близкими, понятными, важными в осознании протяжённого во времени понятия Родина. Поэтические включения в прозаический текст и в целом поэтическая структура книги «На дороге стоит – дороги спрашивает» воспринимаеются как яркая характеристическая черта пятидесятых годов, в которых себя в полной мере делами, свершениями, проявили как физики, так и лирики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повести и рассказы молодого петербургского писателя Антона Задорожного, вошедшие в эту книгу, раскрывают современное состояние готической прозы в авторском понимании этого жанра. Произведения написаны в период с 2011 по 2014 год на стыке психологического реализма, мистики и постмодерна и затрагивают социально заостренные темы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
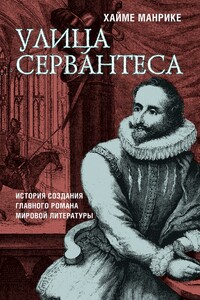
«Улица Сервантеса» – художественная реконструкция наполненной удивительными событиями жизни Мигеля де Сервантеса Сааведра, история создания великого романа о Рыцаре Печального Образа, а также разгадка тайны появления фальшивого «Дон Кихота»…Молодой Мигель серьезно ранит соперника во время карточной ссоры, бежит из Мадрида и скрывается от властей, странствуя с бродячей театральной труппой. Позже идет служить в армию и отличается в сражении с турками под Лепанто, получив ранение, навсегда лишившее движения его левую руку.