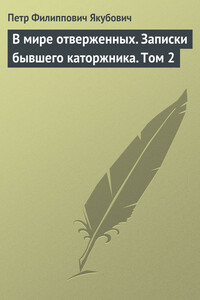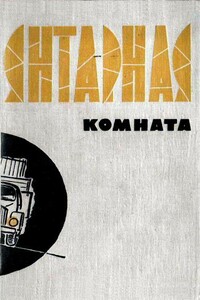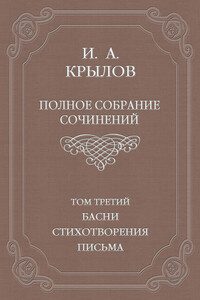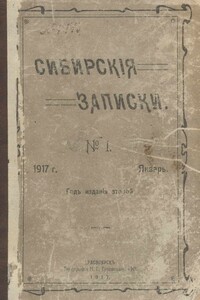А впереди? Только что немного привыкнешь к дому, смотришь: дети уж выросли и — ты не нужна. Опять ходи по газетным объявлениям и снова продавай себя с душой и телом за двенадцать, много — за пятнадцать рублей в месяц. Да, вся жизнь моя до того тускла, что даже и горя-то настоящего я не испытала, не только радости: когда мама умерла, я и то почувствовала скорее облегчение, чем горе, так как она три года не вставала с постели, а последний даже и разум совсем потеряла и была мне в тягость. В чужих же домах какое может быть горе? Выговор разве за что-нибудь получишь и только. А радости? Вот завтра подарок получу: какой-нибудь тёмненькой матерьицы на платье. И вся радость! У других хоть в прошлом что-нибудь имеется, чем они живут: роман какой-нибудь или иные какие-нибудь воспоминания… У меня ничего нет. Гимназии не кончила, — не было средств, да и особенных способностей, чтобы можно было на казённый счёт… Кое-как выучилась кройке, но открыть самостоятельное дело опять-таки не было средств и уверенности в своих силах… Так вот и скитаешься всю жизнь по чужим людям каким-то ненужным шестым пальцем на руке… Ну, к чему вот, например, я должна одевать это старомодное идиотское платье? Потому, что хозяйка моя, Анна Игнатьевна, особа религиозная и требует непременно, чтобы на Пасху все были одеты в светлое. „Днесь всякая тварь веселится и радуется!“ — будет повторять она завтра целый день, а между тем сегодня уже предупредила меня, чтобы куличи для гостей резать как можно тоньше, и что прислуге, кроме супа, готовить ничего не нужно, так как на тарелках будет много остатков от гостей. А сам глава — Дмитрий Константинович? И завтра, наверно, будет такой же жёлчный, раздражительный как всегда. Нацепит на себя все ордена, но не так как следует, а криво, не по своим местам и будет выходить из себя, а Анна Игнатьевна станет поправлять ему их и усовещивать: „Помилуй, друг! Днесь всякая тварь веселится и радуется!..“ А он по прошлогоднему обрежет её: „У твари-то, матушка моя, одно только и дело, что радоваться, а члену судебной палаты радоваться некогда: вон какая кипа дел лежит, а тут ещё визиты дурацкие!“»
Вспомнив хозяев, Вера Васильевна невольно повернула голову в ту сторону, где спали две их дочери, перед кроватями которых на стульях были приготовлены нарядные белые платья, и подумала: «Вот у этих будет жизнь, так жизнь! Уж теперь себе ни в чём отказа не знают: вон какие платья-то сшиты!» И чувство зависти и злобной обиды наполнило всё её существо. Она так крепко сжала свои руки, что слышно было, как хрустнули пальцы.
— С каким бы наслаждением я изорвала эти платья, измяла бы их!.. — прошептала она. — Пускай бы хоть на минуту эти люди почувствовали ту обиду, которую я ношу в себе, скрывая её ото всех! От меня что требуется? Полная безличность и машинное исполнение всех обязанностей. Ни своего вкуса, ни своего мнения, ни своего желания, ничего, ничего у меня не должно быть! И так до самой смерти где-нибудь на больничной койке!.. А что, если поджечь квартиру? Уронить, например, лампу? Вот будет переполох!.. Сгорят и эти платья, и хозяйские куличи… Будет ли тогда Анна Игнатьевна веселиться и радоваться? Или ещё лучше: повеситься самой вот на этих розовых кушаках и лентах… Красиво будет! Я никогда розовых лент не носила!..
Строя подобные планы мести, Вера Васильевна давно уже взволнованно ходила по комнате с искажённым, пылавшим злобой лицом и горевшими глазами.
Краснощёкая, жизнерадостная Катя вошла в детскую и с беспечно весёлой улыбкой громким шёпотом проговорила:
— Барышня, утюги-то готовы!
— А? Что такое? — испуганно повернулась к ней Вера Васильевна.
— Утюги, говорю, готовы! — повторила горничная.
— Катя, скажите мне, почему вы всегда такая весёлая? — задала, вдруг, ей вопрос Вера Васильевна.
— А как же, барышня? Смеясь-то ведь легче жить! — ещё веселее ответила девушка. — Сурьёзному человеку на всё обидно: он и на солнышко красное сердится, и человек ему всякий мешает… Уж какая ему жизнь?! Вы давайте-ка мне платье-то, я вам его разглажу: мне сейчас нечего делать-то, всё справила!..
— Спасибо вам, я и сама могу!.. — сконфузилась пред этой искренней добротой Вера Васильевна.
— Вы не бойтесь, я аккуратно, не испорчу.
Катя взяла барышнино платье и вышла из детской.
«Что же это такое со мною делается? — простонала Вера Васильевна. — Откуда у меня эта злоба и ненависть к людям? Больна, что ли, я? Нет, это так продолжаться не может. Я давно уже чувствую в себе прилив этой злобы, но того, что сегодня, со мной никогда ещё не было… Господи, прости меня, смягчи моё сердце!»
Вера Васильевна подошла к иконе, перед которой теплилась лампадка, и, встав на колени, начала молиться.
Молилась она горячо и долго. В тишине детской слышался её страстный шёпот: «Господи, помоги мне забыть о себе! Дай мне силы донести до конца данный мне Тобою крест! Наполни душу мою верой в Тебя, и да будет исполнение Твоих заповедей целью моей жизни!»
Заслышав в коридоре шаги, Вера Васильевна поспешно поднялась с пола, отёрла слёзы и умилённо улыбнулась вошедшей Кате.
— В лучшем виде разгладила, барышня! Ну, уж и платьице у вас — прелесть! Материя такая добротная! — искренно восторгалась девушка, осторожно раскладывая на постели выглаженное платье.