Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем «Список благодеяний» - [196]
В 1936 году начата дискуссия о формализме. Один из действующих литераторов в кулуарах писательского собрания заявляет: «Я считаю, что формализм — это основа будущего искусства. <…> Единственное спасение в формальных исканиях. Вс. Иванов, Олеша и многие другие декламировали — это их спасение. Убежден, что так, как я, думают многие. Все знают, о чем нужно писать, но как писать, не знают, и, кроме того, трудно приспособиться»[686]. Кому-то приспособиться «трудно», а кому-то оказывается невозможным. В 30-е годы режиссер выпускает спектакли о судьбе, прощении, милосердии (с внезапно укрупнившейся устойчивой женской темой), от «Списка благодеяний» идет к «Даме с камелиями», «Пиковой даме», репетирует сейфуллинскую «Наташу». Звучат темы милости к падшим — и рока как расплаты, гибели как искупления. Вопреки всему Мейерхольд пытается сделать еще один шаг к утверждению малопозволительных к тому времени гуманистических ценностей: в параллель, в одни и те же репетиционные дни 1936 года, он готовит два спектакля: об обманутых революцией людях («Наташа») — и пушкинского «Бориса Годунова» с безмолвствующим в финале народом.
После премьеры «Списка» Олеша остается в Москве. Мейерхольд с частью ГосТИМа уезжает на гастроли. «Мы Вам телеграфировали по нашему московскому адресу. Почему же Вы теперь даете нам адрес „Литературной газеты“? Разве Вы не у нас живете? Если не у нас, то почему не у нас? <…> Или Вам одному в пустой квартире стало страшно? Вы мистик? Или еще не раскрытый убийца? В чем дело?»[687] — шутливо спрашивает удивленный Мейерхольд, оставивший бездомного и любимого друга в собственной удобной квартире, в нескольких минутах ходьбы от МХАТа, где недавно игрались «Три толстяка», от вахтанговского, где шел его «Заговор чувств», наконец, от «Националя», в котором Олеша любил посидеть за рюмочкой…
В архиве писателя сохранен лист бумаги, на котором аккуратно выведено чернилами:
«Как Мейерхольд ставил мою пьесу. Дневник».
Следующая запись появится спустя почти четверть века. Она сделана карандашом, буквы плохо различимы.
«Почему ж не написал этого дневника?
1954, Москва, октября 4-го».
И дальше, неразборчивым почерком, совсем не похожим на обычный твердый и щеголеватый почерк Олеши, сначала продолжая страницу, затем переходя вверх, на левое боковое поле, и вновь, как в лихорадке, возвращаясь вниз, туда, где еще осталось немного свободного места. Будто человек ничего не собирался писать, но ожившая память подчинила себе и заставила водить пером.
«Теперь этой (чернилами, разумеется) надписи двадцать лет. „Список“ был поставлен в 1931 году. Значит, двадцать три года. А я отлично помню, как на другой день после премьеры, с перегаром в голове, я стоял в сумеречный день, среди серого колорита на улице Горького при выходе из Брюсовского переулка.
Вскоре Райх убили. Говорят, что ей выкололи глаза — был такой слух, по всей вероятности, родившийся не из ничего. Прекрасные черные глаза Зинаиды Райх — смотревшие, при всем ее демонизме, все же послушным старательным взглядом девочки. Перец Маркиш, который, кажется, тоже умер[688], сообщил мне о том, что Райх именно убита (а то говорили, что только избита), на каком-то жалком банкете в доме Герцена, где я сидел пьяный, несчастный, спорящий со всеми, одинокий, загубленный… Сообщил Маркиш со слов его знакомого врача, который… Впрочем, может быть, и не так, теперь уж не помню.
Ее убили в 1938 году[689].
Я помню ее всю в белизне — голых плеч, какого-то ватерпуфа, пудры — перед зеркалом в ее уборной, в театре — пока пели звонки под потолком и красная лампочка, мигая, звала ее идти на сцену.
Они меня любили, Мейерхольды.
Я бежал от их слишком назойливой любви».
Здесь же еще один лист, но уже машинописный (хранить рукопись опаснее), с наброском о людях, чьи имена ни разу не названы. Этот лист отвечает на вопросы Мейерхольда, заданные им Олеше летом 1931 года.
«Он часто в эпоху своей славы и признания именно со стороны государства наклонялся ко мне и ни с того ни с сего говорил мне шепотом:
Меня расстреляют.
Тревога жила в их доме — помимо них, сама по себе. Когда я жил в этом доме в их отсутствие, я видел, слышал, ощущал эту тревогу. Она стояла в соседней комнате, ложилась вдруг на обои, заставляла меня, когда я возвращался вечером, осматривать все комнаты — нет ли кого там, пробравшегося в дом, пока меня не было, заглядывать под кровати, за двери, в шкафы. Что, казалось, угрожало в те дни этому дому — в дни расцвета и власти хозяина? Ничто не угрожало — наоборот, отовсюду шла слава с букетами, деньгами, восхвалениями, заграничными путешествиями. И все же тревога была такой властной в его пустом доме, что иногда я просто обращался в бегство — ни от чего: от обоев, от портрета хозяйки с большими черными глазами, которые вдруг начинали мне казаться плачущими.
Хозяйку закололи в этом доме. Так что до появления убийц я уже слышал их, почти видел — за несколько лет.
Хозяина расстреляли, расстреляли — как он и предчувствовал это.
Ее убийство окружено тайной. Убийцы проникли с улицы через балкон. Она защищалась. Говорят, что ей выкололи глаза. Она умерла, привезенная скорой помощью в больницу, от утраты крови. Похоронили ее, так сказать, в полицейском порядке, но одевала ее для гроба балерина Гельцер

Книга о формировании советского сюжета в российской драме 1920-х — начала 1930-х годов основана на обширном материале малоизвестных и забытых отечественных пьес. Увиденные глазами современного исследователя, эти яркие и острые тексты представляют выразительный историко-культурный срез российской жизни тех лет, её конфликтов и героев, теснейшим образом связанных с реалиями нашего сегодняшнего дня.
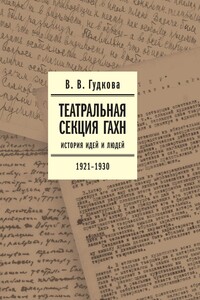
В начале XX века театр претерпевал серьезные изменения: утверждалась новая профессия – режиссер, пришло новое понимание метафорического пространства спектаклей, параллельно формировалась наука о театре. Разрозненные кружки и объединения пишущих о театре людей требовали институционализации, и в 1921 году на основе Государственного института театроведения была организована Театральная секция Российской академии художественных наук. Эта книга – очерк истории ее создания, нескольких лет напряженной работы – и драматической гибели в месяцы «великого перелома».

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен.

История всемирной литературы — многотомное издание, подготовленное Институтом мировой литературы им. А. М. Горького и рассматривающее развитие литератур народов мира с эпохи древности до начала XX века. Том V посвящен литературе XVIII в.

Опираясь на идеи структурализма и русской формальной школы, автор анализирует классическую фантастическую литературу от сказок Перро и первых европейских адаптаций «Тысячи и одной ночи» до новелл Гофмана и Эдгара По (не затрагивая т. наз. орудийное чудесное, т. е. научную фантастику) и выводит в итоге сущностную характеристику фантастики как жанра: «…она представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания».

Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (Главлит СССР). С выходом в свет настоящего Перечня утрачивает силу «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в районных, городских, многотиражных газетах, передачах по радио и телевидении» 1977 года.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».
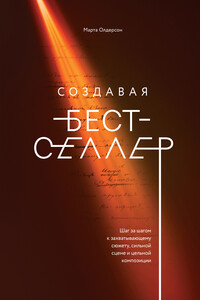
Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.