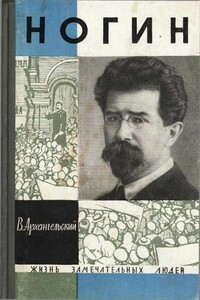Юность нового века - [98]
— Где Колька? — вскидывал он голову над подушкой.
Значит, думал он, что куда-то подевался Колька, когда похоронил деда. А Колька и впрямь пропал: закрыл хату и ночью ушел. Мать нашла утром записку под дверью: «Не судите меня, мама Анна. Хоть до весны не буду вам в тягость. Димушку поцелуйте: так мне без него тяжко. Ваш крестник Колька».
Безрадостным было возвращение Димки к жизни: Колька сбежал, и след его затерялся. А два дня назад умер Потап.
Димка сидел дома один, на конике, у окна, где пивал чаи дед Семен, и глядел, как все село шло за красным гробом большевика.
Благочинного не позвали. Он стоял, стоял возле церковных ворот — в золоченой ризе, в камилавке — и провожал процессию долгим взглядом. А потом махнул рукой, подошел к длинной веревке похоронного колокола и зазвонил.
Потап не жаловал благочинного, но говаривал не раз:
— Коли не пришло еще время гнать попа в загривок, пускай этот сидит. Все других-то лучше: не ярыжка, не запивоха, не фискал, не трус. А коммуну развернем — и прикончим тот уклад, что дает жить церкви и ее служкам… Точка!
И благочинный не любил Потапа, а звонил оттого, что не хотел отстать от людей. Ведь им была отдана жизнь кузнеца — без всякой корысти, с пламенем сердца. И от всего-то старого режима и от новой должности осталась у его Ульяны только черная персидская шаль генеральши, взятая в ночь погрома. И в этой шали Ульяна шла в слезах за гробом, уронив голову на плечо Димкиной матери.
И люди не скрывали слез: с покойником словно отходила в дальнюю даль их большая мечта про коммуну — Потап ее создал, а от плодов ее не вкусил.
Димка не плакал: сердце его очерствело. Он глядел, как тянется след можжевельника за Обмерику, и молча горевал о Потапе. И вдруг со страхом подумал о Кольке: «Где ты? Куда унесли тебя ноги? Зачем без тебя такая тоска! И отчего бывает так дорог другой человек?»
Никогда раньше он не думал о дружбе: Колька был под рукой, им не грозила разлука, жизнь, как бы она ни шла, казалась полной.
Но ведь сейчас рядом Настя. Чем плохо? В любовь не крутит, на парте — обочь, видеть ее — всегда радость. И она будто знает об этом: нет-нет да и пройдет мимо окон и приветливо помашет рукой. И хорошо, что она есть, а — не то, не то! И Филька и Сила дружки с самых малых лет. Только шепни им, мигом прибегут под окно. Сила будет строить смешные рожи, а Филька сыграет на своей жалейке. Не плохо. А все же не то! С Колькой не ровня. Нет его, и словно руку отняли напрочь!
И что в нем такого? Выдумщик, это да: так повернет все, до чего другие-то ребята и не додумаются. Псаломщика в один день выжил — шарахнул по уборной из шомполки; щиты разрисовал для стрельбища, и Потапу это было в радость; и эту первую клятву над угольком придумал: «Победа или смерть»! И всегда с ним весело. И слушается, и доверяет, и ни в чем не отстает. А по алгебре и Димку зашибает, и Асю, не гляди, что та ночи не спит и все задачи решает. Ох, уж эта Басенко-Попотенко! И догадлив: едва рот раскроешь, а он уже понял. Здорово! И предан до гроба. И приветлив, и ласков.
«Значит, любит он меня, да и я так же, — размышлял Димка. — И мы с ним как две руки, как две ноги, как два глаза. И ничего, что по виду разные: он и похрупче, и почернявей, и телка ему волосы на лбу зализала. А на самом-то деле и разницы нет! О чем я ни подумаю — ему скажу, и он — так же. И все у нас едино. Может, в этом и есть наша дружба?.. Но где ты, друг?..»
А благочинный звонил и звонил. И в этом надсадном звоне было что-то в память о Кольке.
Димка кинулся на койку, закрыл уши ладонями и на мокрой от слез подушке не скоро забылся тревожным сном.
Колька вернулся весной, когда пролетали на север гуси и журавли, набухли почки у черемухи, заскрипели на все лады пестрые скворушки. Он пришел прямо к Шумилиным, в час уроков, и Димки не было дома, и положил на стол маленький сверток. Он похудел, заветрился. В глазах у него мать увидала и грусть, и суровость, и больной, лихорадочный блеск. И сидел перед ней не мальчишка, а человек бывалый, с людским горем близко знакомый, и не спеша отхлебывал кипяток с блюдца и как мышонок — дробно и громко — грыз сухарик.
Мать с Феклой и Сережка с большим трудом тянули из него слово за словом.
— И куда же ты закатился?
— На Украйну, под город Ромны. Харчей хотел разжиться. У кулака зимой волов стерег, а как весна пришла — пахать стал. Потом гайдамаки пришли: головорезы, все во хмелю, стреляют куда ни попало. Шаровары на них синие, в руках — нагайка, на бритой голове — оселедец. Думаю: «Не по мне это». Ночью насыпал пуд гречки в рубаху — не украл, за работу взял — и пошел: мимо двух станций, прямо до Бахмача.
Мать что-то вспомнила, покопалась под занавеской на горке, где стояла посуда, нашла в картонной коробке завалящий сахарный огрызок, подала его Кольке. Он откусил крошку, отодвинул сахар Сережке.
— Три дня шел. Ну, побирался. Где блин дадут, где молока с сухарем вынесут. У одной бабки спал ночью. А просыпаюсь перед рассветом — на соломе теленочек рядом, рыжий, с белым боком, ласковый такой, по щеке меня языком лижет. Добрался до Бахмача, на чугунку сел: на крышу в товарном вагоне. Пояском к трубе привязался, чтоб где не скинуло. А народу кругом — будто мухи на каравае: и на буферах, и на подножках, и на тормозах. Ничего люди не боятся. Виснут, только что зубами за крышу не держатся! И со мной рядом — один на одном — ногу протянуть негде. Тронулся народ с места. Знамо: подыхать-то с голоду неохота! Всяких баек понаслушался. И за советскую власть и против. Кто хвалит и вроде надежду держит, а кто клянет, как мы Петьку Лифанова. Понять ничего нельзя… На другой день стали подходить к городу Глухову. Разогнался наш паровик под уклон, спасу нет, а рельсы-то… и разошлись. Ну, и стал он прыгать по шпалам, передние вагоны на паровик полезли и повалились с ним под откос. А сзади вагоны сдавились, как гармошка. А мы в середке были, и нас с крыши — как блин с лопаты: через голову, за насыпь и — прямо в болото.
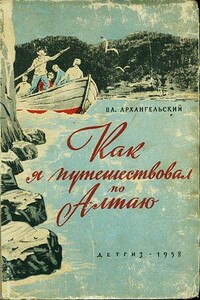
Автор провёл лето на Алтае. Он видел горы, ходил по степям, забирался в тайгу, плыл по рекам этого чудесного края. В своём путешествии он встречался с пастухами, плотогонами, садоводами, охотниками, приобрёл многих друзей, взрослых и ребят, и обо всех этих встречах, о разных приключениях, которые случались с ним и его спутниками, он и написал рассказы, собранные в книге «Как я путешествовал по Алтаю».
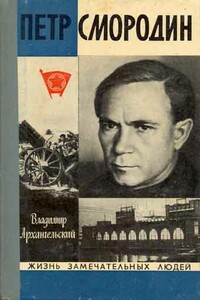
Книга рассказывает о жизни секретаря ЦК РКСМ Петра Смородина. С именем П. Смородина связана героическая деятельность РКСМ в годы гражданской войны и перехода к мирному строительству.В книге представлены иллюстрации.

В книге рассказывается о жизни и деятельности Михаила Васильевича Фрунзе — революционера, советского государственного и военного деятеля, одного из наиболее крупных военачальников Красной Армии во время Гражданской войны, военного теоретика.

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.
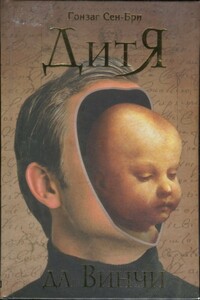
Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.
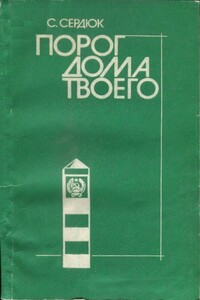
Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.