Язык текущего момента. Понятие правильности - [2]
Естественно восторгаться размахом вечно бурлящего океана – языка, но нельзя не заметить его избыточности: в нём много устаревающего и новейшего, необходимого и ненужного, прекрасного и отвратительного, всплывающего из глубин во время шторма. Чтобы незатруднённо понимать друг друга, люди одной породы прежде всего нуждаются в общепонятном единстве языка. Без него немыслимо осознать своё духовно-культурное родство, создать нацию и государство, сотрудничать в хозяйстве и других областях жизни. Сплочение нации, общее взаимопонимание требуют порядка, дисциплины, согласия о правильности языка.
ПетербурЖанки и петербурЖцы (всё-таки не петербурГцы, хотя они сейчас сами предпочитают петербурГский старому петербурЖский) булкой называют не только булки, но батоны, булочки, ситники, халы, калачи, весь белый хлеб. Курицу, под которой разумеем и петуха, называют логичнее – курой в согласии с куры (сейчас в гастрономическом смысле у нас повсюду по английскому образцу начали говорить цыплёнок, цыплята). Бордюр, как все горожане называют камень, отделяющий тротуар от проезжей части, петербуржцы именуют поребриком. Звонят друг другу на трубочку, а не по мобильнику. А главное – потешаются над сердеШным другом москвичом, говорящим булоШная, Што, доЩь, доЖьЖьа вместо сердеЧный, булоЧная, Что, доЖДь. Впрочем, и москвичи теперь многие пристрастились говорить булоЧная, а некоторые – даже Что.
Можно ли упорядочить употребление слов силою общественного мнения, школы, прессы? Можно, но… жалко, почитая авторитет двух столиц и уважая своеволие самого языка, дарящего нам простор выражения. К тому же и в Москве, путая скуЧно и скуШно, разумеют разницу между тоЧно и тоШно. Если говорить серьёзно, то правильный язык питается из обоих источников.
Академик Л.А. Вербицкая показала, что общерусское произношение сложилось к середине ХХ столетия в единую произносительную норму в ходе своеобразных рокировок. Например, москвичи стали мягко, в согласии с написанием произносить глагольную частицу – с, – ся (раньше говорили твёрдо (учуС, училСА). Коренные петербуржцы забыли в пользу московско-всеобщей формы сосулька производящее слово сосуля, которое употребляли раньше: «С выступа крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой» (Набоков В.В. Рождество). Героиня В.В. Набокова вспоминает слово и в другом, неизвестном для Москвы виде: «Там холодная зима и сосулищи с крыш» (Набоков В.В. Подвиг). Некоторые авторитеты и сегодня так говорят, им и греча приятнее московско-общего уменьшительного гречка. Но пример взаимоуважения прекрасен. Главное же в том, что, так утверждаясь, люди всё же вполне понимают друг друга, находясь в пределах одного языка.
Вот если чужое вовсе непонятно, то это вроде и не язык. В старой России людей, говоривших совсем непонятно, считали немыми и называли немцами, не разбирая, германцы ли они или французы, голландцы, шведы… Древние греки и римляне всех, не владевших их языками, именовали варварами – обходившимися какими-то непонятными выкриками вар-вар-вар вместо человеческой речи. Правда, варварами обзывали и стиляг моей юности, которые оберегали свои музыкальные предпочтения, одежду и словарь, отстаивали свою манеру поведения, хотя в остальном их понять было нетрудно. Древние, конечно, знали, что среди «варваров» есть разные народы, как-то понимающие друг друга. Тем не менее уже в войске Александра Македонского всех славян ставили на один фланг сражения как взаимно разумеющих, несмотря на то что внутри такого «сообщества» славяне различали своих и чужих.
Дело в том, что этническое и государственное единство, военное в том числе, нуждаясь в консолидации и сплочении, неизбежно ослабляет как индивидуальные, так и территориальные, профессиональные, социальные, возрастные и иные отличия, а в многонациональной стране – отчасти даже этнические и языковые. Уважительное взаимодействие всех «своих» языков и, конечно, различий внутри одного общего языка должно избегать коллизий вроде тех, когда людей, говоривших непонятно, считали немыми чужаками.
Правильный русский язык, который становится общим, гордо повторяет в своём названии имя государства и народа, кому он родной, – русский, Русь, Россия (раньше писали о языке Российском, подчёркивая уважение заглавной буквой). Он принципиально един, устойчив и всеобщ. Он возвышается над океаном наречий, жаргонов, даже общего просторечия, не говоря уж об особенностях речи отдельных личностей. Он служит дисциплинирующим орудием, наводящим порядок в обществе.
Невозможно, конечно, не задать вопрос: кто, где, когда и, главное, почему объявил основой общего и самого правильного язык именно Москвы, а не язык, например, Орла, Саратова, Иркутска и тем более не язык явно претендующего на это Санкт-Петербурга? И не ущемляет ли этот факт права и претензии других регионов? Ограничимся ссылкой на М.В. Ломоносова, считавшего, что язык вырос и возмужал на основе говора Москвы – «по важности столичного города и для своей отменной красоты».
Каждый школьник слышал о теории «трёх штилей» и об изданном в 1755 году первом учебнике собственно русского языка – «Российской грамматике». В них М.В. Ломоносов – великий русский гений, учёный и стихотворец – утверждал превосходство русского языка над другими главными языками человечества, находя в нём «великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского и сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков».

В книге на основании огромного фактического материала анализируются процессы, происходящие в языке современных средств массовой информации. отмечается все возрастающая роль СМИ в формировании языковой нормы и вводится понятие вкуса как фактора, влияющего на норму, объясняющего направление языковой эволюции. Книга предназначена для широкого круга читателей, которых волнует судьба родного слова.
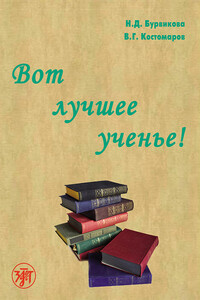
Книга в научно-популярной форме рассматривает влияние чтения на развитие мыслительной деятельности человека, анализирует соотношение словесности, книжности и мультимедийного текста в современной культуре. Авторы также прослеживают возможности формирования концептов через чтение и зрительно-пространственные представления. Рекомендуется для широкого круга читателей.
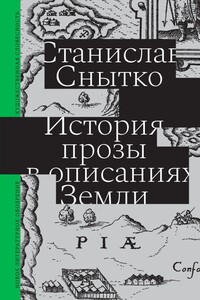
«Надо уезжать – но куда? Надо оставаться – но где найти место?» Мировые катаклизмы последних лет сформировали у многих из нас чувство реальной и трансцендентальной бездомности и заставили переосмыслить наше отношение к пространству и географии. Книга Станислава Снытко «История прозы в описаниях Земли» – художественное исследование новых временных и пространственных условий, хроника изоляции и одновременно попытка приоткрыть дверь в замкнутое сознание. Пристанищем одиночки, утратившего чувство дома, здесь становятся литература и история: он странствует через кроличьи норы в самой их ткани и примеряет на себя самый разный опыт.

Книга Дж. Гарта «Толкин и Великая война» вдохновлена давней любовью автора к произведениям Дж. Р. Р. Толкина в сочетании с интересом к Первой мировой войне. Показывая становление Толкина как писателя и мифотворца, Гарт воспроизводит события исторической битвы на Сомме: кровопролитные сражения и жестокую повседневность войны, жертвой которой стало поколение Толкина и его ближайшие друзья – вдохновенные талантливые интеллектуалы, мечтавшие изменить мир. Автор использовал материалы из неизданных личных архивов, а также послужной список Толкина и другие уникальные документы военного времени.
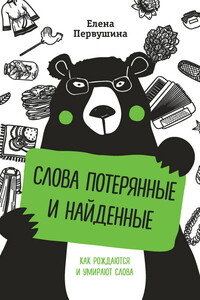
В новой книге известного писателя Елены Первушиной на конкретных примерах показано, как развивался наш язык на протяжении XVIII, XIX и XX веков и какие изменения происходят в нем прямо сейчас. Являются ли эти изменения критическими? Приведут ли они к гибели русского языка? Автор попытается ответить на эти вопросы или по крайней мере дать читателям материал для размышлений, чтобы каждый смог найти собственный ответ.
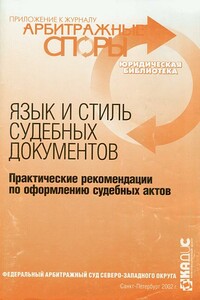
Сборник подготовлен Федеральным арбитражным судом Северо-Западного округа при содействии Совета судей Российской Федерации, Союза юристов России.
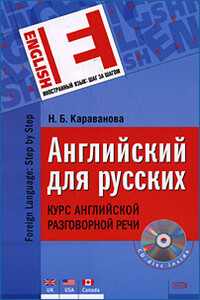
Предлагаемое издание – учебник нового, современного типа, базирующийся на последних разработках методики обучения языкам, максимально отвечающий потребностям современного общества.Его основная цель – научить свободно и правильно говорить на английском языке, понимать разговорную речь и ее нюансы.Отличительными чертами учебника являются:· коммуникативная методика подачи и закрепления материала;· перевод на английский язык лексики и диалогов учебника носителем языка;· грамматические комментарии, написанные на основе сопоставительного изучения языков и имеющие также коммуникативную направленность.Учебник предназначен для студентов, преподавателей, а также для всех, кто хочет научиться свободно общаться на английском языке.

Доклад С.Логинова был прочитан на заседании Семинара 13 декабря 1999 года, посвященном теме «Институт редакторов в современном литературном процессе»).От автора: статья написана на основе фактов, все приведённые имена и фамилии подлинные. Случайных оскорблений здесь нет.