Язык - [7]
В попытках осуществить такого рода систематизацию не было недостатка с самого начала философии Нового времени и современного философского идеализма. Уже программное произведение Декарта о методе, «Regulae ad directionem ingénu», отклоняло как тщетную попытку старой метафизики обозреть всю совокупность вещей и желание проникнуть в глубинные тайны природы, настаивая на том, что возможно мысленно исчерпать и измерить «universitas» духа. «Ingénu limites definire» — определить объем и границы духа: этот девиз Декарта стал лейтмотивом всей философии Нового времени. Но само понятие «духа» у него еще двусмысленно, так как употребляется то в узком, то в широком значении. Поскольку философия Декарта по сути дела исходит из нового широкого понятия сознания, но применяет его в значении cogitatio, отождествляя с чистым мышлением, постольку для Декарта и всего рационализма система духа совпадает с системой мышления. Вот почему universitas духа, его конкретная целостность только тогда может считаться действительно понятой с философской точки зрения, когда удастся дедуцировать ее из одного — единственно — го логического принципа. Тем самым чистая логическая форма вновь возвышается до прототипа и образца всякого духовного бытия, всякой духовной формы. Как у Декарта, с которого начинается ряд систем классического идеализма, так и у Гегеля, которым он заканчивается, эта методологическая взаимосвязь вполне очевидна. Гегель выдвинул требование мыслить целостность духа как конкретное целое, т. е. не ограничиваться его простым понятием, а развертывать во всем многообразии его проявлений, с такой ясностью, с какой до него этого не делал никто. Однако феноменология в своем стремлении выполнить это требование готовит почву и расчищает дорогу только логике. Многообразие форм духа, демонстрируемых феноменологией, в конечном счете увенчивается логическим понятием — и в этом завершении оно впервые обретает свою сущность и совершенную «истинность». Как бы разнообразно и богато ни было оно по содержанию, структурно оно все‑таки подчинено единственному и в известном смысле единообразному закону — закону диалектического метода, который представляет собой неизменный ритм в самодвижении понятия. Приобретая чистую форму своего бытия — понятие, — дух завершает свое формирование в абсолютном знании. В этой конечной цели содержатся, хотя и в снятом виде, как простые моменты, все пройденные им ранее стадии. Таким образом, из всех форм духа подлинной автономии здесь удостаивается лишь форма логического, форма понятия и знания. Понятие есть не только средство изображения конкретной жизни духа — оно является поистине субстанциальным элементом духа. Соответственно, любое духовное бытие и любой духовный процесс, несмотря на требование, что их следует понять и признать в их специфическом своеобразии, в конечном счете соотносятся как бы с одной — единственной мерой — и только в этом соотнесении может быть понята вся глубина их содержания и их истинный смысл.
Казалось бы, последнее единство всех форм духа в логической форме на основе понятия философии, прежде всего принципа философского идеализма, и в самом деле необходимо. Если отказаться от единства, то о строгой систематизации духовных форм, по — видимому, вообще не может быть речи. Тогда в качестве альтернативы диалектическому методу останется лишь метод эмпирический. Пока не удастся найти общего закона, по которому одна форма духа с необходимостью вытекает из другой, так что все формы духа в конце концов оказываются подвластны единому принципу, совокупность этих форм невозможно мыслить как замкнутый в себе космос. Отдельные формы будут тогда рядоположны: конечно, все они останутся в поле нашего зрения, а своеобразие каждой из них можно будет вполне описать, но в них не будет выражено общее идеальное содержание. В результате философия таких форм превратится в их истории, которые в зависимости от предмета будут представлены как специальные дисциплины — история языка, история религии и мифа, история искусства и т. д. Таким образом, возникает странная дилемма. Если мы будем придерживаться требования логического единства, то в конечном счете нам грозит стирание особенностей каждой отдельной области и самобытности ее принципа во всеобщности логической формы; если мы, наоборот, погрузимся в индивидуальное своеобразие форм и ограничимся его созерцанием, то рискуем заблудиться и не найти обратного пути ко всеобщему. Выход из этой методологической дилеммы будет обретен лишь в том случае, если удастся выявить и зафиксировать момент, который обнаруживается в каждой форме духа, но ни в одной из них не проявляется одинаковым образом. Тогда, принимая во внимание этот момент, можно было бы утверждать о существовании идеальной

Эрнст Кассирер (1874–1945) – немецкий философ, представитель второго поколения неокантианцев марбургской школы. Занимает особое место среди наиболее известных мыслителей первой половины XX в. Обладая энциклопедическими знаниями, Кассирер сочетает в своих работах всестороннюю аргументированность и глубину мысли с ясностью изложения, широким, культурологическим взглядом на проблемы познания.В данное издание включена книга Э. Кассирера: «Индивид и космос в философии Возрождения» и приложение: Николай Кузанский.

Гений – вопреки расхожему мнению – НЕ «опережает собой эпоху». Он просто современен любой эпохе, поскольку его эпоха – ВСЕГДА. Эта книга – именно о таких людях, рожденных в Китае задолго до начала н. э. Она – о них, рождавших свои идеи, в том числе, и для нас.

Книга английского политического деятеля, историка и литературоведа Джона Морлея посвящена жизни и творчеству одного из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века – Вольтера. В книге содержится подробная биография Вольтера, в которой не только представлены факты жизни великого мыслителя, но ярко нарисован его характер, природные наклонности, способности, интересы. Автор описывает отношение Вольтера к различным сторонам жизни, выразившееся в его многочисленных сочинениях, анализирует основные произведения.

Эта книга отправляет читателя прямиком на поле битвы самых ярких интеллектуальных идей, гипотез и научных открытий, будоражащих умы всех, кто сегодня задается вопросами о существовании Бога. Самый известный в мире атеист после полувековой активной деятельности по популяризации атеизма публично признал, что пришел к вере в Бога, и его взгляды поменялись именно благодаря современной науке. В своей знаменитой книге, впервые издающейся на русском языке, Энтони Флю рассказал о долгой жизни в науке и тщательно разобрал каждый этап изменения своего мировоззрения.

Немецкий исследователь Вольфрам Айленбергер (род. 1972), основатель и главный редактор журнала Philosophie Magazin, бросает взгляд на одну из величайших эпох немецко-австрийской мысли — двадцатые годы прошлого века, подробно, словно под микроскопом, рассматривая не только философское творчество, но и жизнь четырех «магов»: Эрнста Кассирера, Мартина Хайдеггера, Вальтера Беньямина и Людвига Витгенштейна, чьи судьбы причудливо переплелись с перипетиями бурного послевоенного десятилетия. Впечатляющая интеллектуально-историческая панорама, вышедшая из-под пера автора, не похожа ни на хрестоматию по истории философии, ни на академическое исследование, ни на беллетризованную биографию, но соединяет в себе лучшие черты всех этих жанров, приглашая читателя совершить экскурс в лабораторию мысли, ставшую местом рождения целого ряда направлений в современной философии.

Парадоксальному, яркому, провокационному русскому и советскому философу Константину Сотонину не повезло быть узнанным и оцененным в XX веке, его книги выходили ничтожными тиражами, его арестовывали и судили, и даже точная дата его смерти неизвестна. И тем интереснее и важнее современному читателю открыть для себя необыкновенно свежо и весело написанные работы Сотонина. Работая в 1920-е гг. в Казани над идеями «философской клиники» и Научной организации труда, знаток античности Константин Сотонин сконструировал непривычный образ «отца всех философов» Сократа, образ смеющегося философа и тонкого психолога, чья актуальность сможет раскрыться только в XXI веке.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В сегодняшнем мире, склонном к саморазрушению на многих уровнях, книга «Философия энтропии» является очень актуальной. Феномен энтропии в ней рассматривается в самых разнообразных значениях, широко интерпретируется в философском, научном, социальном, поэтическом и во многих других смыслах. Автор предлагает обратиться к онтологическим, организационно-техническим, эпистемологическим и прочим негэнтропийным созидательным потенциалам, указывая на их трансцендентный источник. Книга будет полезной как для ученых, так и для студентов.
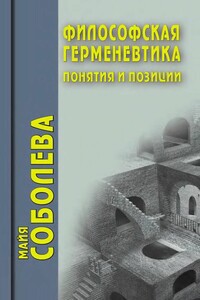
Книга посвящена философской герменевтике как науке о понимании текста и как науке о понимании мира в целом. Она состоит из двух частей: в первой рассматриваются основные понятия герменевтики текста, во второй — концепции отдельных авторов, исследующих процесс понимания мира человеком.Книга предназначена для преподавателей и студентов философских факультетов, представителей других гуманитарных дисциплин, а также для широкого круга читателей.
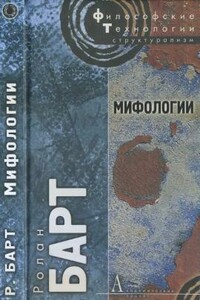
В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)
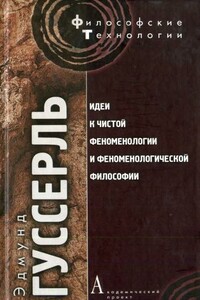
Ключевая работа основателя феноменологии — одного из ведущих направлений современной мысли, подвергающего анализу непосредственные данности сознания — представляет собой подробное введение в феноменологическую проблематику. В книге обосновывается понимание феноменологии как чистой науки, философского метода и мыслительной установки. Традиционные философские вопросы о восприятии и переживании, о сознании и мышлении, о разуме и действительности разворачиваются оригинальным образом. С немецкой обстоятельностью Гуссерль разбирает особенности феноменологической редукции, учения о ноэме и ноэзисе, позиции трансцендентального идеализма.http://fb2.traumlibrary.net.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.