Язык - [3]
Так понимал свой философский вклад и сам Платон. Именно это он выдвигает в качестве основного момента, отличающего его умозрения от умозрений досократиков в поздних произведениях, где поднимается до наивысшей ясности в изложении логических предпосылок своего учения: бытие, которое в форме отдельного сущего принималось за твердый исходный пункт, впервые осознается им как проблема. Платон уже не задается вопросом о делении, образовании и структуре бытия, а спрашивает о его понятии и смысле. По сравнению с этим острым вопросом и строгим требованием ранние попытки мирообъяс — нения выглядят просто как повествования, мифы о бытии[1]. Отныне над этими мифологически — космологическими объяснениями возвышается истинное, диалектическое объяснение: оно уже не ограничивается одним содержанием, а делает зримым подразумеваемый смысл, систематически — телеологическую взаимосвязь. Тем самым и мышление, которое в греческой философии со времен Парменида являлось понятием, тождественным бытию, впервые получает новое, более глубокое истолкование. Лишь там, где бытие оказывается в строго определенном смысле проблемой, мышление обретает строго определенную значимость и ценность принципа. Оно уже не ставится в один ряд с бытием и не является простым размышлением «над» ним — его собственная внутренняя форма определяет внутреннюю форму бытия. Эта типичная ситуация повторяется потом на разных этапах истории идеализма. Стоит лишь реалистическому мировоззрению успокоиться, найдя в каком‑нибудь свойстве вещей, предельно доступном опыту, краеугольный принцип познания, как тотчас идеализм превращает это свойство в вопрос мышления. Аналогичный процесс происходит и в истории частных наук. Их путь, казалось бы, прост — через «факты» к «законам», а от них снова к «аксиомам» и «принципам»; но те самые аксиомы и принципы, которые на определенной ступени познания выглядят окончательным и совершенным решением проблемы, на более поздней ступени вновь становятся проблемой. Соответственно, то, что наука объявляет «бытием» и «предметом», не есть фактическое и далее неделимое положение вещей — каждый новый способ и направленность его рассмотрения открывает в нем момент новизны. Тем самым неподвижное понятие бытия словно бы становится текучим, вовлекается в общее движение — и единство бытия становится мыслимым уже только как его цель, а не начало. По мере того как это воззрение приживается и получает развитие в науке, у наивной теории отражения выбивается почва из‑под ног. Основополагающие понятия каждой науки, средства, которыми она ставит вопросы и формулирует выводы, предстают уже не пассивными отражениями данного бытия, а в виде созданных самим человеком интеллектуальных символов. Раньше всех и наиболее остро осознало символический характер своих фундаментальных средств физико — математическое познание[2]. В предисловии к «Принципам механики» Генрих Терц чрезвычайно точно сформулировал новый познавательный идеал, на который ориентирует все развитие науки. Ближайшую и важнейшую задачу естествознания он усматривает в том, что оно должно позволить нам предвидеть будущее: выведение же будущего из прошлого базируется на конструировании нами особого рода «внутренних призрачных образов, или символов», внешних предметов — причем таких, что мыслительно — необходимые следствия из них всегда становятся образами естественно — необходимых следствий отображаемых ими предметов. «Если на основе накопленного ранее опыта нам удастся создать образы, имеющие требуемые качества, то мы тотчас сможем вывести из них, как из моделей, следствия, которые либо сами произойдут во внешнем мире некоторое время спустя, либо будут получены как результаты нашего собственного вмешательства… Образы, о которых идет речь, — это наши представления о вещах: с вещами они согласуются в одном существенном аспекте, а именно в том, что выполняют указанное выше требование, но для их предназначения совсем не обязательно, чтобы они согласовались с вещами в чем‑нибудь еще. В действительности мы не знаем и никогда не сможем узнать, согласуются ли наши представления с вещами в каком‑нибудь другом отношении, кроме как в одном фундаментальном, о котором мы только что говорили»[3].
Итак, естественнонаучная теория познания, на которую опирается Генрих Герц, а также теория «знаков», впервые детально разработанная Гельмгольцем, продолжают в гносеологии говорить языком теории отражения, однако само понятие «образа» претерпело в них внутренние изменения. Вместо требуемого содержательного «подобия» между образом и вещью появилось в высшей степени сложное логическое отношение, общее интеллектуальное условие, которое должны выполнять фундаментальные понятия физики. Их ценность состоит не в отражении бытия, а в том, что они могут дать как средства познания, в создаваемом ими из самих себя единстве явлений. Взаимосвязь объективных предметов и способ их взаимозависимости должны быть представлены в системе физических понятий, но это представление будет возможно лишь в той мере, в какой эти понятия с самого начала будут принадлежать одной определенной познавательной ориентации. Предмет нельзя полагать в качестве простого «бытия в себе» независимо от существенных категорий естествознания — он может быть представлен только в этих категориях, конституирующих его собственную форму. Фундаментальные понятия механики, в частности понятия массы и силы, Герц называет «призрачными образами» именно в этом смысле; раз они созданы логикой естествознания, то должны подчиняться ее общим нормам, среди которых на первом месте — априорные требования ясности, непротиворечивости и однозначности описания.

Эрнст Кассирер (1874–1945) – немецкий философ, представитель второго поколения неокантианцев марбургской школы. Занимает особое место среди наиболее известных мыслителей первой половины XX в. Обладая энциклопедическими знаниями, Кассирер сочетает в своих работах всестороннюю аргументированность и глубину мысли с ясностью изложения, широким, культурологическим взглядом на проблемы познания.В данное издание включена книга Э. Кассирера: «Индивид и космос в философии Возрождения» и приложение: Николай Кузанский.
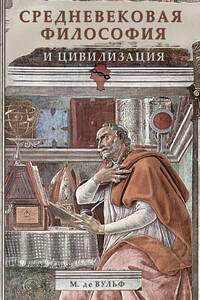
Книга выдающегося ученого Мориса де Вульфа представляет собой обзор главных философских направлений и мыслителей жизненно важного периода Западной цивилизации. Автор предлагает доступный взгляд на средневековую историю, охватывая схоластическую, церковную, классическую и светскую мысль XII—XI11 веков. От Ансельма и Абеляра до Фомы Аквинского и Вильгельма Оккама Вульф ведет хронику влияния великих философов этой эпохи, как на их современников, так и на последующие поколения. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Развивая тему эссе «Разоблачённая демократия», Боб Блэк уточняет свой взгляд на проблему с позиции анархиста. Демократическое устройство общества по привычке считается идеалом свободомыслия и свобододействия, однако взгляните вокруг: наше общество называется демократическим. На какой стороне пропасти вы находитесь? Не упадите после прочтения!
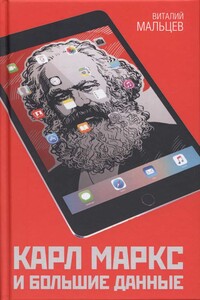
К концу второго десятилетия XXI века мир меняется как никогда стремительно: ещё вчера человечество восхищалось открывающимися перед ним возможностями цифровой эпохи но уже сегодня государства принимают законы о «суверенных интернетах», социальные сети становятся площадками «новой цензуры», а смартфоны превращаются в инструменты глобальной слежки. Как же так вышло, как к этому относиться и что нас ждёт впереди? Поискам ответов именно на эти предельно актуальные вопросы посвящена данная книга. Беря за основу диалектические методы классического марксизма и отталкиваясь от обстоятельств сегодняшнего дня, Виталий Мальцев выстраивает логическую картину будущего, последовательно добавляя в её видение всё новые факты и нюансы, а также представляет широкий спектр современных исследований и представлений о возможных вариантах развития событий с различных политических позиций.
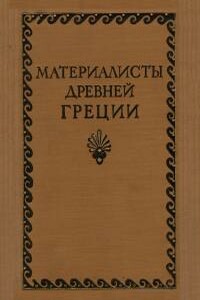
Перед вами собрание текстов знаменитых древнегреческих философов-материалистов: Гераклита, Демокрита и Эпикура.
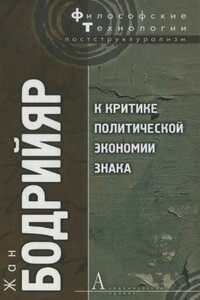
Одна из важнейших программных книг современного французского мыслителя представляет собой собрание статей, последовательно выстраивающих оригинальную концепцию, с позиций которой разворачивается радикальная критика современного общества, исполненная с неподражаемым изяществом и блеском. Столкновение подходов политэкономии и семиотики, социологии и искусствоведения, антропологии и теории коммуникации позволяет достичь не только разнообразия стилистики, но и неожиданно парадоксального изменения ракурсов восприятия всех актуальных проблем.Для студентов и всех интересующихся современной философией.http://fb2.traumlibrary.net.
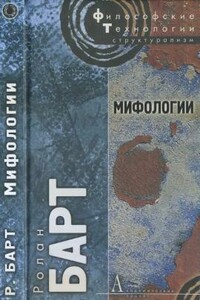
В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)
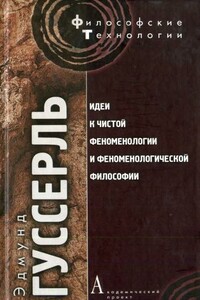
Ключевая работа основателя феноменологии — одного из ведущих направлений современной мысли, подвергающего анализу непосредственные данности сознания — представляет собой подробное введение в феноменологическую проблематику. В книге обосновывается понимание феноменологии как чистой науки, философского метода и мыслительной установки. Традиционные философские вопросы о восприятии и переживании, о сознании и мышлении, о разуме и действительности разворачиваются оригинальным образом. С немецкой обстоятельностью Гуссерль разбирает особенности феноменологической редукции, учения о ноэме и ноэзисе, позиции трансцендентального идеализма.http://fb2.traumlibrary.net.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.