Я жду - [2]
Наверное, я задремал, как это часто случается со мной. Во всяком случае, я закрыл глаза. Открывая же их снова, я сильно вздрогнул, как будто кто-то назвал меня по имени. Может, все неожиданно рано вернулись. Нечто подобное промелькнуло у меня в голове, но я не обернулся. Не знаю, почему. Все мое полусонное внимание было приковано к часам. И я тотчас же заметил — у фарфоровой фигурки крестьянского паренька отсутствовала кисть левой руки.
Мне очень трудно в точности передать, что я испытывал в этот миг. Трудно потому, что для этого мне нужно мысленно перенестись в то время, когда это открытие не имело особого значения. Я видел только, что кисть отбита, подумал, как давно она отбита, и подивился тому, что не заметил этого прежде. Мэйбл рассердится, подумал я, и тут во мне проснулся страх, что, может, это я каким-то образом отбил ее во сне. Я протер глаза, да вдруг так и выпрямился в кресле. Я заморгал глазами. Какая нелепость! Должно быть, я видел сон, потому что теперь, когда я совсем проснулся и рассмотрел часы, я увидел, что ошибся. С часами вовсе ничего не случилось: фарфоровая ручка, целая и невредимая, по-прежнему находилась на своем месте.
Как-то, примерно неделю спустя, я гулял утром по саду, когда Мэйбл вышла из дому с выражением крайней досады на лице.
— Уилфред, — сказала она. — Боюсь, мне все-таки придется уволить Анни.
Анни была наша новая служанка, и она не очень успешно справлялась со своими делами.
— Почему? — спросил я. — Что она такого натворила?
— Ты представляешь! — воскликнула Мэйбл. — Эта девица хуже всякого слона. Умудрилась разбить часы в гостиной. Говорит, она вытирала с них пыль. Наверное, она делала это кувалдой.
Но я уже мчался мимо нее, к дверям, которые вели из сада прямо в гостиную. Едва ли я сознавал, почему я был так взволнован. Войдя в комнату, я увидел то, что смутно ожидал увидеть: левая ручка фарфорового паренька была отбита у запястья.
Человеческая память хитрее искуснейшего министра пропаганды. Она устанавливает строжайшую цензуру в отношении неприемлемых для нас фактов, а потом, много недель и даже месяцев спустя, когда подвернется подходящий случай, воспроизводит их вновь. Уже через полчаса после того, как Мэйбл показала мне поврежденные часы, я напрочь забыл о своем сне. В тот же вечер, сидя в одиночестве у камина, я рассматривал фигурку паренька с отбитой рукой так, словно мне о нем ничего не было известно. Назавтра ручку приклеили; трещина была почти незаметна, и не осталось ничего, что напоминало бы о случившемся. И все же, когда пришло время вспомнить, я вспомнил все, вплоть до мельчайших подробностей, как вы сами сможете в том убедиться.
Второй раз это произошло в понедельник, 20 февраля, в одиннадцать часов двадцать пять минут утра. Я был у себя в спальне, у книжного шкафа, который стоит в углу за кроватью. Мэйбл, насколько я знаю, находилась в кухне вместе с кухаркой. Служанка прибирала в ванной. Брат был на службе. И у нас не гостил никто из моих племянников.
Было серое утро. Хотя оттуда, где я стоял, я не видел окна, по стуку капель о стекло я догадался, что пошел дождь. Я только что решил полистать «Кольцо и книгу». Я очень люблю читать Роберта Браунинга.
Когда я протянул к книге руку, я испытал какое-то странное ощущение, которое мог бы сравнить лишь с острой ревматической болью. Не могу однако сказать, чтобы оно было по-настоящему болезненным. Оно охватило все мое существо. Дрожь пробежала по моему онемевшему телу, на лбу выступила испарина. Но несмотря на силу приступа, я не переменил своей позы. Я так и стоял с протянутой рукой, словно оледеневший. То, что произошло вслед за этим, длилось не больше минуты. Может, оно заняло всего несколько секунд.
Сначала я заметил только изменение настроения, которое очень трудно передать. Мне сделалось светлее, счастливее — словно какая— то тяжесть свалилась у меня с души. Да, светлее, это самое точное слово, потому что вся моя комната и в самом деле была залита светом, ярким солнечным светом, от которого на стену, над книжным шкафом, легли тени. Я ощущал его тепло на своих руках и затылке.
Стоя так, я начал не только ощущать и видеть, но и слышать. Снизу, из сада в окно доносились разные звуки. Я слышал смех, говор и стук теннисного мяча, летавшего над сеткой. Потом один голос, звучавший гораздо отчетливее других, выкрикнул: «А ну, Джойс! Задай им жару. Они уже трещат». Это был мой самый младший племянник. А Джойс — его невестка, жена моего старшего племянника.
Никакими словами не в силах я описать, насколько странными показались мне эти привычные слова и звуки. Я слушал их, как мертвец мог бы слушать голоса живых. Они раздавались совсем близко и все же так неизмеримо далеко. «Хитро! Очень хитро!» — услышал я возглас Джойс. И Боб, мой старший племянник, отрезал: «У, корова, во что ты, по-твоему, играешь — в пинг-понг?»
И это все. В следующий миг контакт — или как бы вы там его ни назвали — оборвался. Пальцы коснулись книги, и вот я снова включился в серый и такой понятный процесс нормального сознания. За моей спиной дождь хлещет по стеклу, а вокруг — свет февральского утра. Я слышал, как, выйдя из ванной, служанка стала спускаться по лестнице.

Роман «Одинокий мужчина», впервые опубликованный в 1964 году и экранизированный в 2009-м Томом Фордом (с Колином Фертом в главной роли), – одно из самых известных произведений Ишервуда. Один день из жизни немолодого университетского профессора, недавно потерявшего самого близкого человека и теперь не знающего, как и зачем жить дальше. Он постоянно окружен людьми – людьми, которые, пожалуй, даже любят его и уж точно стараются понять и поддержать. Но их благие намерения лишь заставляют его сильнее чувствовать свое абсолютное одиночество.
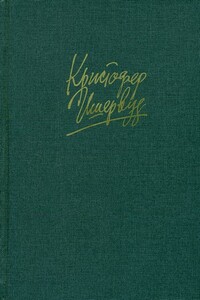
Роман под этим названием (1939) — неизвестная русскоязычному читателю страница классики английской литературы, наделавшая в 30–40-х годах немало шума благодаря творческим новациям и откровенности, с какой автор, один из представителей «потерянного поколения», повествовал о нравах берлинской (и, шире, западноевропейской) художественной богемы. Близкая к форме киносценария импрессионистическая проза К. Ишервуда запечатлела грозовую действительность эпохи прихода Гитлера к власти: растерянность интеллигенции, еврейские погромы, эпатирующую свободу нравов, включая однополые любовные связи, — со смелостью, неслыханной ни в английской, ни в американской литературе того времени.

Обаяние произведений Кристофера Ишервуда кроется в неповторимом сплаве прихотливой художественной фантазии, изысканного литературного стиля, причудливо сложившихся, зачастую болезненных обстоятельств личной судьбы и активного неприятия фашизма.

Четыре места – Бремен, греческие острова, Лондон, Калифорния. Четыре эпохи – буйные двадцатые, странное начало тридцатых, с их философскими исканиями, нервный конец тридцатых, когда в воздухе уже пахнет страшнейшей из войн в истории человечества, и лихорадочное предвоенное американское веселье начала сороковых. Четыре истории о том, как «духовный турист» – рассказчик Кристофер Ишервуд – находится в поисках нового образа жизни и лучшего будущего, встречая на своем жизненном пути совершенно разных людей. А все вместе – впервые опубликованный в 1962 году роман «Там, в гостях».

В этот сборник вошли классические романы «берлинского» периода творчества Кристофера Ишервуда «Труды и дни мистера Норриса» и «Прощай, Берлин». Сюжет романа «Прощай, Берлин» лег в основу сценария бродвейского мюзикла «Кабаре» и культового одноименного фильма Боба Фосса с Лайзой Минелли в главной роли. Берлин перед приходом к власти нацистов. Здесь пока еще бурлит знаменитая на всю Европу ночная жизнь, рыдает джаз, горят огни кабаре и клубов. Здесь пока еще царят вольные нравы, процветают авантюристы всех мастей и пороки всех окрасов и реки алкоголя текут меж кокаиновых берегов.
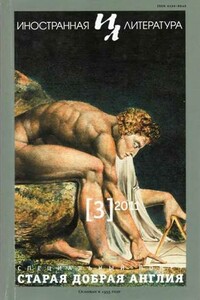
Видный английский писатель Кристофер Ишервуд (1904-1986) представлен романом "Мемориал. Семейный портрет". Три поколения английского семейства, 20-е годы прошлого столетия. Трагедия "Потерянного поколения" и конфликт отцов и детей осложнены гомосексуальной проблематикой. Перевод С английского Елены Суриц.