Я видел Сусанина - [41]
— Благословение наше великому господину пану Яну-Петру Павловичу Сапеге-е, — читал дьяк владыкам. — И милость божия и пречистыя богородицы-ы… есть и пребудет на нем, великом господине-е…
А мысли Филарета были не здесь: иные грезы смущали святейшего.
Легла будто бы пред очами тяжелая и строгая Книга Бытия, шелестят-хмурятся грозные страницы ее, кровью человечьей закапанные.
Вот зри начало: девятым днем после Покрова собрался было ехать в Ярославль, к воеводе Борятинскому. Пал к тому дню Переяславль, дрогнули силы Третьяка Сеитова. «Налаживайте возок», — повелел выездным слугам. Да хитер сатана: в последний час, ровно к полудню, прискакали на митрополичий двор четыре переяславских игумена. Всклоченные, от страха вид потерявшие, — о, искушение! День владыки убит, исковеркан (не гнать же игуменов со двора), а в сумерки выскользнуть, аки тать в нощи, не дозволял сан.
…Шурши, Книга Бытия: новая страница — новое утро. Стынет небо во мраке, там и тут зловещие факелы, тревога, набаты, гомон. Не хватило в то утро духу, чтоб укротить мятежных и заблудших, к покорству судьбе призвать их. Грех мой, о господи, пред тобою есьм выну: сплошал, недомекал, пленен быв ростовцами. Студь в брюхе вознялась и трясение в коленях неодолимое, а благословлял же, благословлял супротивных шишей на бой с войском Димитрия! Даже топоришки святить заставила земщина, кистени, вилы… О, как хотелось в тот час вырваться из дурманного запаха кислых сермяг, лаптей, драных кафтанов! Как хотелось бы превратиться хоть в мошку малую, в жалкую тлю… А не сам ли виноватый, не сам ли? Пошто мешкал-копался, пошто не выехал раньше в Ярославль? Един мудр — бо един господь. Молебствие, начавшееся в Успенском соборе до рассвета, все шло и шло. Страстно, с надеждой молились миряне, у всех образов теплились жаркие свечи.
Не принес утешения луч денницы. От великого многолюдства столь сперся воздух, что свечи задыхались и гасли. Дверь уже кто-то замкнул крюком и шкворнями, снаружи метались и вопили посадские. Пение в соборе не могло уже заглушить воинственных воплей: недостойно, осатанело встречала земщина войско Димитриево. И ты же, праведный, наказал их еси.
Когда нестерпимый пламень взвился над посадом, когда летящая смерть опахнула крылом Соборную площадь, храм превратили они в крепость[18]. Не владыка, не священнослужители — увы — распоряжались там. Земцы впустили оружных воинов, заложили окна корзинами с песком и землей, заняли в буйстве ожесточения все карнизы вверху, все выступы снаружи. Обезумевшие, распаленные злым неистовством, земцы зачали бой со святилища! Очисти мя, грешного, помилуй мя… Воины же царя Димитрия палили в ответ из мушкетов и пушек по храму. Дым, гарь; стонала дверь под ударами ядер — кровь, кровь, о господи. Грядет ли тот день, когда пребудет волк в дружбе с ягненком, когда корова будет пастись рядом с медведицей, а лев, аки скот, станет жевать солому? Откроются ли глаза слепого и уши глухого отверзятся ли? Страшусь, о боже, видеть страницу крови. Сжечь бы ее, испепелить…
Испепелили, разумеется.
Обличающие документы аккуратненько сожгли, выдрав из древлехранилищ, прошлое подпудрили, высветлили, подлатали, и свыше трехсот лет русская Книга Бытия носила романовские заплаты. Из нее следовало, что Федор — Филарет, этот изменник в рясе, блудливый перебежчик в стан врага, был не менее как святым великомучеником! Что в Тушине-городке, у самозванца — ишь ведь какое диво! — держали его будто бы «крепким насильством». Что если и стал он лжепатриархом (при живом патриархе Гермогене), то с единственной целью, оказывается: лучше служить… русскому народу!
Какая же фальшь, какое кощунство!
Никто не жил четыреста лет, живых свидетелей мы не имеем. Но, к счастью для нас, не все древние акты и грамоты цари смогли прочесать. Многое просто не видели, не успели выщипать всех корешков. И вот по крохам случайно уцелевшего, по малым крупицам и корешкам проясняется все же тайное тайных Филаретовой авантюры.
Дело шло так.
Выскользнуть из Ростова, не запятнав святительский сан, владыке было уже нельзя. Где-то перемудрил он, где-то просчитался и упустил нужный час. А ростовцы-простолюдины — тертый народ: стать за Лжедимитрия открыто, как это можно было в Костроме или в Ярославле, здесь было рискованно[19]. Оказавшись в Успенском соборе, Филарет имел в то утро лишь один шанс: взять мирян на испуг. Не убеждением, так страхом великим, сценами будущих лютых кар сломить простолюдье. Затем прямо с молебствия вывести всех навстречу «богодарованной» шляхте. С иконами, с хоругвями, конечно.
Ничего из этого не могло получиться. Опора митрополита, ростовская знать, покинула город еще накануне, а воины-земцы, уцелевшие в сече под городом и на посаде, укрылись в храме не для того, чтобы слушать увещания владыки. Воины эти (всего-то горстка) мыслили укрепиться в каменных, недоступных по тем временам стенах, превратить собор в последнюю свою крепость. Или, если уж победа не суждена, взорвать себя вместе с храмом: под полом заложены были там бочонки с порохом.
Такова истина. Волосы владыки за эти два часа стали седыми, — не так уж хотелось вознестись раньше срока на небеса даже священнейшему.
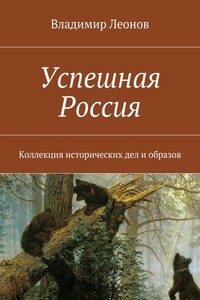
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
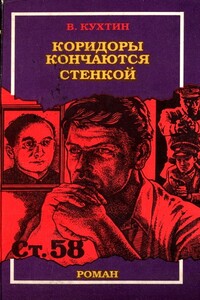
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.