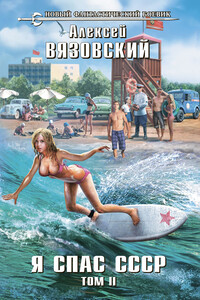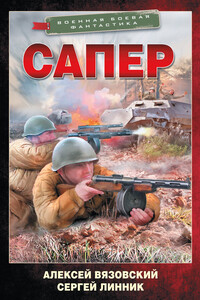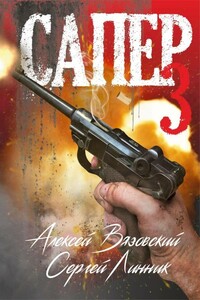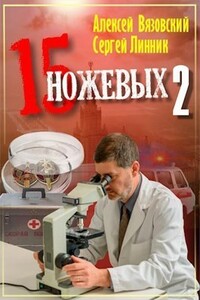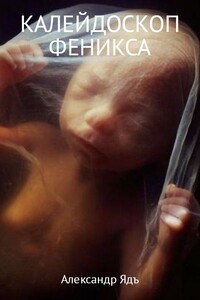Шарль тоже еще тот красавчик. Понимаю, что раньше он работал с братом и никакого начальства над ним не было, вот и не привык вести себя, как положено в иерархической структуре, тем более армейской. А Кованько, хоть и воздухоплаватель — военная косточка, ему с детства в подкорку зашили “равняйсь-смрно-разрешите обратиться!” и он таких взбрыков не понимал. Ну и плюс Кованько худо-бедно старался привлечь к делу ученых мужей, с Николаем Егоровичем Жуковским переписку затеял, тот все рвался из Москвы приехать, на полеты посмотреть. Дмитрий-то Рябушинский, его патрон и создатель Аэродинамического института уже успел причаститься, когда с картиной Пикассо приезжал.
Так что генерал старался поставить дело “по науке”, а Вуазен все больше на “инженерную интуицию” уповал. И ладно бы у него большой опыт был, так откуда он в двадцать шесть лет возьмется?
За две недели до Пасхи авиаторы сожгли нахрен седьмой мотор. То есть он не прямо сгорел, а выработал ресурс. Поскольку некая практика уже имелась, то произошло это, слава богу, не в воздухе, а при наземных испытаниях — авиаторы вели учет моточасов и когда до установленного срока оставалось меньше двух, летать на таком движке прекращали. Шарль же на это дело забил (и где-то был прав — перестраховка, все равно дольше сорока минут аппарат в воздухе не держался), сделал какое-то усовершенствование и немедля возжелал проверить его в воздухе. Солдатики в парке французскому гостю отказать не смогли, на старт вывели, пропеллер крутанули, от винта разбежались — но по команде доложили и севшего Вуазена встречал рассвирепевший Кованько.
Ну а дальше — слово за слово, припомнили друг другу все, начиная с полета Икара и разругались вдрызг. Шарль дверью хлопнул и свалил из Гатчины. А Кованько приказал доработать ресурс, ставить новый двигатель и продолжать полеты.
И как назло, в первом же разбился поручик Корф. Насмерть. Вошел в штопор и не вышел. Только справили поминки, первый вылет после катастрофы — авария! Хорошо хоть капитан Гатицкий отделался переломами и двумя выбитами зубами, жив остался. Проверили все, перепроверили — и прямо на старте запороли еще один двигатель. Поршневая пошла вразнос и показала всем “кулак дружбы” — торчащую сквозь корпус движка головку шатуна. Ну такие сейчас двигатели, все на той самой интуиции, теории еще нет, все решения на ощупь.
И вот тут приехал первый двигатель сызранской сборки. Завода там еще не было, потому собирали полукустарно, в мастерских — впрочем, условия у Сегена были немногим лучше. Дозвонился мне тот же Гатицкий, прямо из Царскосельского госпиталя — приезжайте, Григорий Ефимович, плохо дело в парке. Двигатель новый, неопробованный, сборка русская, а не привычная французская, настроения на авиаполе похоронные, без вас вода не освятится…
Я как раз сидел в кабинете у окна, открытого в первый раз после зимы и наслаждался нежданным теплом и редкой паузой в непрерывном потоке партийных дел, думских интриг, финансовых махинаций и планов на будущее. Разговор с летчиком разбередил душу и я решил дать себе день роздыху — послал всех дела к черту, на все звонки велел таинственно отвечать “занять государственными делами чрезвычайной важности” и велел запрягать автомобиль. Или закладывать — как правильно-то, уже и не соображал. Явившийся для получения приказаний шофер спросил, насколько далекой планируется поездка. Узнав что в Гатчину, поглядел в потолок, что-то посчитал, шевеля губами, кивнул и вышел — через пятнадцать минут авто будет у подъезда.
Я тем временем вытащил из шкафов изрядно запылившиеся кожаное пальто, шлем, очки, краги и прочие доспехи, но тут в меня буквально вцепилась Танеева:
— Григорий Ефимович, умоляю! Возьмите меня с собой, я все время мечтала посмотреть на аэропланы!
На аэропланы, ага. Небось на героических летчиков посмотреть — они ведь сейчас вроде космонавтов, да к тому преимущественно из благородных семейств, чем не пара Анечке? Глядишь, и выдам ее замуж по любви…
— Собирайся, поехали.
Что она там щебетала два часа, пока мы катили в Гатчину, уже не вспомнить — хорошая погода, дорога, ветерок… расслабился я, только благосклонно кивал и помалкивал.
По приезду все-таки пришлось переходить в рабочее состояние — проводить совещание, разбирать взаимные претензии. Если не поломать сейчас нездоровое уныние в воздухоплавательной школе, то они дальше себя так накрутят, что полгода работы насмарку пойдут. Потому я велел готовить единственный оставшийся “на лету” аппарат к старту. Выкатили мне наше последнее детище, двухместный биплан, почти как настоящий. Еще бы двигатель раз в пять помощнее, да обшивку фанерную и вот почти истребитель. Ну а пока так.
Облачился я в свою авиакожу, обошел аэроплан, проверил, как того требовала недавно составленная инструкция — не течет ли масло, туго ли натянуты тросы управления, нет ли где люфта ненужного, уселся на пилотское место, рычаги подвигал… и как-то ушла суета питерская, легко стало. Впереди — только небо!
От винта!
Разбег и взлет выполнил почти идеально, против ветра, даже сам собой погордился. Поднял аппарат метров на пятьдесят, сделал коробочку над аэродромом, хотел было над городом пролететь, да решил, что сегодня не стоит, сегодня главное авиаторам показать, что все в порядке. И сел тоже красиво, всего разик и подпрыгнул и аккуратно подрулил к стоянке, а там уже чуть ли не праздник.