Я — годяй! Рассказы о Мамалыге - [2]
Слышь, ты! — подошла к его тени тень гораздо более длинная, но тоже красивая. — Ты кто?
Тень принадлежала мальчишке выше и старше Миши и умевшему, как тут же выяснилось, далеко-далеко плевать через щель в верхних зубах.
— Я Миша, — задрав голову и улыбнувшись, ответил Миша.
— А ты евреев любишь? — ни к селу, ни к городу спросил мальчик, но видно было, что ему это важно.
Миша стал думать. Что это такое, или кто такие евреи, Миша не знал. Тогда он прислушался к самому слову. Слово Мише не понравилось.
— Нет, — сказал он, — не люблю.
— А я их душу! — облегчённо признался мальчик. — Дай из автомата пострелять.
Обрадованный таким единством взглядов, Миша охотно снял автомат, они постреляли, поаккомпанировали себе боевым пением без слов, как в кино, и дружески разошлись.
А вечером, когда родители Пети и Оли пришли с работы и сидели во дворе за большим столом, Миша подошёл к ним похвастать автоматом и новостями. Олю и Олину маму автомат не заинтересовал, и поэтому Миша решил именно их порадовать своим открытием.
— А я евреев не люблю! — хвастливо заявил он.
— Это как же так! — смешно, по-воронежски расставляя ударения, спросила Оля. — Как же ты их не любишь, когда ты сам еврей?
— Кто еврей? — оторопел Миша.
— Да ты вот и еврей! — обидно усмехнулась Оля.
— Ты с чего это взяла! — рассердился Миша. — И вообще — я ж тебя не обзываю.
— Да с того и взяла, — правда, мама? Я и не обзывалась вовсе. Это ты так называешься, потому что у тебя папа еврей.
— Папа еврей? — вид у Миши был раздавленный.
— Да. И папа и даже мама! Правда, мама?
Миша некоторое время потрясённо молчал, а потом, резко встряхнув головой, сказал, как отрезал:
— Я тебе не верю! Я спрошу у бабушки. Но если даже они и евреи, я — все равно не еврей!
Олина мама очень смеялась, и Оля смеялась тоже, и даже Петя с его папой (тоже, кстати, Петей) отвлеклись от автомата и похихикали. Мише был знаком этот смех. Так уже смеялись у них в группе, когда сестричка пришла делать прививки, а некоторым, в том числе и Мише, их уже сделали. Им повезло, в тот раз они с лёгким сердцем смеялись над теми, кому было страшно подставлять лопатку. И Миша смеялся… Вот и они — Оля, Петя и их родители, — им в этот раз повезло: они не евреи, они могут смеяться.
А через месяц приехала Мишина мама забирать его домой. Она весь день стирала то, что Миша успел «выпачкать и перепачкать», как говорила бабушка. Она стирала во дворе, недалеко от колонки. Миша долго стеснялся, а потом подошёл к ней с мучившим его вопросом.
— Мам, слышь, мам! Что такое евреи?
— Что? — рассеяно спросила мама и вытерла лоб.
— Ну, евреи, — что это?
— Евреи? Ты откуда это взял? — она стала выкручивать очередную вещь.
— Ну… Евреи, это… это такие японцы. — И засмеялась.
С тех пор уже грамотный Миша на вопрос, какой ты национальности, уверенно и безапелляционно отвечал: «Японский еврей».
В детском саду Мишину память заметили. Во-первых, его стали использовать как опытного рассказчика. Книги и кино в его изложении становились даже интересней, чем на самом деле. Читать он начал года в три, и это очень раздражало Валентину Борисовну. Но Лилия Ивановна, заведующая, сказала, что это хорошо, а не плохо, и, мол, не надо дёргать ребёнка, он, мол, и так, посмотрите какой…
Во-вторых, он стал главным якобы горнистом (горн он просто прижимал к губам, а Клара Яковлевна стучала по клавишам пианино) и главным исполнителем патриотических стихов на утренниках. Это, между прочим, было даже почётней главного знаменосца! (Главный знаменосец нёс Союзное знамя, а неглавный — Республиканское). С одной стороны зала толпой стояли родители и сидели на стульчиках дети-зрители, а с другой, под огромным портретом товарища Сталина — Миша! По бокам стояли знаменосцы, а Миша звонким неискренним голосом, — так от него требовала сама Лилия Ивановна, — читал длинные-предлинные стихи, которые, кроме него, никто не мог запомнить.
И в-третьих. Благодаря тому, что родители Миши, уходя в кино, оставляли его на попечение бабушки (не той, воронежской, а местной, маминой мамы), он наслушался одесско-еврейских песенок, которые та исполняла, изготовляя на дому так называемые «плечики», подшиваемые к женским платьям. И не только наслушался. Его память прочно вбила их в мозг вместе с интонациями, ужимками и причмокиванием бабушки. И вот это-то как раз очень нравилось Валентине Борисовне, тёте Нине и двум молоденьким практиканткам из педучилища. Мишу ставили в угол за какую-нибудь провинность, а выпускали только при условии исполнения чего-нибудь «вашего». Миша никогда не кочевряжился и охотно орал — слуха он был лишён начисто — эти немудрёные тексты, пытаясь повторять, естественно, и интонации, и ужимки.
А следом шло главное, что требовало высшего артистизма.
Слушатели хохотали и понимающе переглядывались.
Во всех трёх вариантах признание и успех вдохновляли Мишу. Его даже приводили в гости в старшую группу, чтобы и там он держал трудную аудиторию в напряжении час и более. Миша уже научился определять уровень своего ораторского успеха: если все, или почти все повторяют за ним губами и бровями, значит, победа полная. И ему льстило, когда он, входя в чужую группу, слышал радостный возглас: «Ура! Мамалыгу привели!» Короче, его опаздывания, мечтательность, фантастическая медлительность с одной стороны, а артистизм и уникальная память с другой, — создали ему репутацию человека незаурядного и прививали ему довольно запутанный комплекс неполноценности, включающий в себя подозрения широкого диапазона: как в собственной гениальности, так и в своей же дебильности.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
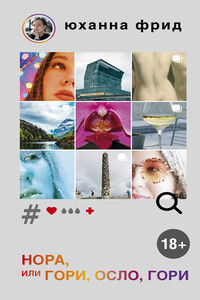
Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
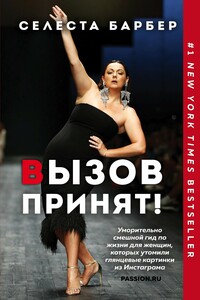
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
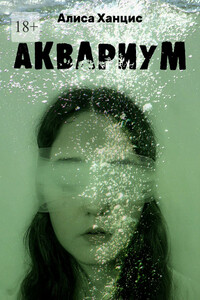
Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.